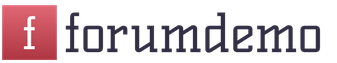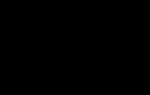Безумие, отсутствие творения. Великолепное безумие Почему человек становится безумным
Всемирный клуб одесситов открыл выставку Асабы «Не надо убивать красивое…».
В галерее Всемирного клуба одесситов открылась персональная выставка художника Анатолия Асабы (1943 - 1986).
Это была первая «персоналка» за четверть века, прошедших после смерти художника с трагической судьбой Анатолия Асабы, а в 2007 году была совместная с Колей Новиковым резонансная экспозиция в галерее «Тритон». На ней были совершенно иные работы, отмеченные тем же великолепным безумием, которым страдал художник, в конце концов, сам лишивший себя жизни.
Анатолий Яковлевич Асаба родился под Феодосией в местечке компактного проживания малочисленного и загадочного этноса - караимов. В 1973 году окончил Одесское художественное училище имени Грекова, где до сих пор вспоминают его экстравагантные выходки, служившие симптомами того самого безумия, которое и свело его в могилу. Асаба рисовал мастерски, чувствовал очень остро, фантазия уносила его в отдаленные эпохи, диктовала причудливые, пропитанные эротизмом сюжеты (например, осмотр монахами обнаженных нимфеток или явление андрогина, полумужчины-полуженщины). Загадочные, порой эпатирующие работы художника находятся в частных коллекциях Украины и России. Одним из таких коллекционеров является Евгений Лукашов, предоставивший свыше сотни картин и рисунков Асабы для выставки в клубе, которая будет работать до конца лета.
«Я лично не был знаком с автором, хотя не однажды видел его, - рассказал Евгений Отарович. - Я собирал его произведения везде - в Одессе, Крыму. Каталог части его работ передан в Евпаторию, в музей караимского народа. Я считаю, это был очень редкий талант, великий рисовальщик конца двадцатого века».
Меньше всего в творчестве этого трогательного и чувствительного безумца прослеживаются этнические корни, но без разговора о караимах поднимать тему личности Асабы, конечно, невозможно. Одесса знала таких влиятельных персон, как представители караимских семейств Абаза, Мангуби, многих других, это были достойные члены общества и примерные граждане своего города и империи в целом.
«Анатолий из караимов, народа, представителей которого осталось очень мало, - произнес краевед Александр Розенбойм. – Они внесли большой вклад в искусство, науку и общество. Чем компактнее народ, тем ярче он себя проявляет».
Преподавательница музыки Людмила Фуки, которая была замужем за караимом (ее супруг, увы, уже ушел из жизни), уточнила: произносить караимские фамилии следует с ударением на последнем слоге.
«Караимы могут похвастать двумя известными художниками, - напомнила Людмила Фуки. – Это Борис Эгиз и Анатолия Асаба. Горжусь тем, что семья моего покойного мужа была в родстве с Эгизом».
«Загадка происхождения караимского этноса до сих пор не разгадана, - резюмирует вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский. – Энциклопедии предлагают на выбор четыре варианта, один из них восходит к хазарам…».
Безусловно, элемент загадочности превалирует и в судьбе караимского (пусть не по духу, а только по происхождению) художника Асабы. Трагедию его положения усугубило то обстоятельство, что ему выпало жить в период торжества соцреализма, и все его порывы в область поиска прекрасного и соблазнительного оказывались особенно не ко времени. Даже если он пытался написать портрет в некой усредненной манере (на выставке есть и такие попытки), получалось нечто неубедительное. Вместо того, чтобы прославлять трудовые свершения, он искал красивое и порочное да хотя бы в изгибах тела и складках синего платья присевшей на скамейку в парке одесситки. Это же было не по-советски…
А теперь наследие Асабы высоко ценят даже такие ультра-современные специалисты, как арт-критик Ута Кильтер. Неискушенному зрителю остается воспринимать эти работы эмоционально.
«Чувствуется, что для этого художника погоня за успехом была в тех условиях невозможна, да он и сам это понимал, - комментирует поэтесса Ирина Денисова. – Уверена, он был по-своему счастлив. И наверняка свел счеты с жизнью не по той причине, что ему не достались какие-то звания и блага. В какой-то момент Асаба не сумел усмирить своих внутренних демонов, а от общества он был скорее свободен, чем зависим».
Коллекционер Лукашов представил на выставке две папки – в одной графика, в другой – рукописи, тоже испещренные рисунками. В глаза бросается строка белого стиха: «Не надо убивать красивое…». Действительно, не надо.
глубокое умственное расстройство. Термин «безумие», под который в прошлом веке подводили все умственные расстройства, является слишком общим и сейчас редко используется в психиатрии, разве что в составе некоторых специальных выражений. В прошлом безумные считались какими-то особенными существами. Затем было замечено, что в действительности каждый индивид несет в себе свою «теневую» сторону - импульсы и желания, вытесненные, укрощенные или направленные общественной жизнью в нужное русло. Человек в гневе на несколько мгновений превращается в безумного. Безумие возникает скорее в результате неуравновешенности между различными составляющими личности, между различными аспектами жизни.
Преимущественно оно имеет социальное значение и указывает на социально неприспособленное поведение: так, психологически безумный человек (например, эпилептик) может найти социально пригодную для него должность (в Индии он может стать шаманом, т.е. вдохновленным свыше жрецом). Общее понятие «безумие» указывает на потерю чувства ответственности или чувства реальности (психастения). Сегодня на смену этому термину пришли термины невроз (ухудшение отношений с другим) и психоз (разрыв отношений с другим). Сегодня безумный не изолирован от общества и не оставлен наедине со своей участью. Врачи пытаются его лечить с помощью впрыскивания химически активных веществ; но в действительности только психоанализ (психопатология) позволяет установить точные диагнозы и останавливать прогрессирование заболевания в тот момент, когда оно еще излечимо.
Отличное определение
Неполное определение ↓
БЕЗУМИЕ
Франц. FOLIE, DERAISON. Кардинальное понятие в системе мышления и доказательств М. Фуко. Согласно Фуко, именно отношением к безумию проверяется смысл человеческого существования, уровень его цивилизованности, способность человека к самопознанию и пониманию своего места в культуре. Иначе говоря, отношение человека к «безумцу» вне и внутри себя служит для Фуко показателем, мерой человеческой гуманности и уровнем его зрелости. И в этом плане вся история человечества выглядит у него как история безумия.
Как теоретика Фуко всегда интересовало то, что исключает разум: безумие, случайность, феномен исторической непоследовательности - прерывности, дисконтинуитета - все то, что, по его определению, выявляет «инаковость», «другость» в человеке и его истории. Как все философы-постструктуралисты, он видел в литературе наиболее яркое и последовательное проявление этой «инаковости», которой по своей природе лишены тексты философского и юридического характера. Разумеется, особое внимание он уделял литературе, «нарушающей» («подрывающей») узаконенные формы дискурса своим «маркированным» от них отличием, т. е. ту литературную традицию, которая была представлена для него именами де Сада, Нерваля, Арто и, естественно, Ницше.
С точки зрения Фуко «нормальный человек» - такой же продукт развития общества, конечный результат его «научных представлений» и соответствующих этим представлениям юридически оформленных законов, что и «человек безумный»: «Психопатология XIX в. (а вероятно, даже и наша) верила, что она принимает меры и самоопределяется, беря в качестве точки отсчета свое отношение к homo natura, или к нормальному человеку. Фактически же этот нормальный человек является спекулятивным конструктом; если этот человек и должен быть помещен, то не в естественном пространстве, а внутри системы, отождествляющей socius с субъектом закона» (Foucault:1972a, с. 162).
Иными словами, грань между нормальным и сумасшедшим, утверждает Фуко, исторически подвижна и зависит от стереотипных представлений. Более того, в безумии он видит проблеск «истины», недоступной разуму, и не устает повторять: мы - «нормальные люди» - должны примириться с тем фактором, что «человек и безумный связаны в современном мире, возможно, даже прочнее, чем в ярких зооморфных метаморфозах, некогда иллюстрированных горящими мельницами Босха: человек и безумный объединены связью неуловимой и взаимной истины; они говорят друг другу эту истину о своей сущности, которая исчезает, когда один говорит о ней другому» (там же, с. 633). Пред лицом рационализма, считает ученый, «реальность неразумия» представляет собой «элемент, внутри которого мир восходит к своей собственной истине, сферу, где разум получает для себя ответ» (там же, с. 175).
В связи с подобной постановкой вопроса сама проблема безумия как расстройство психики, как «душевная болезнь» представляется Фуко проблемой развития культурного сознания, историческим результатом формирования представлений о «душе» человека, представлений, которые в разное время были неодинаковы и существенно видоизменялись в течение рассматриваемого им периода с конца Средневековья до наших дней.
Подобная высокая оценка безумия-сумасшествия несомненно связана с влиянием неофрейдистских установок, преимущественно в той форме экзистенциально окрашенных представлений, которую они приняли во Франции, оказав воздействие практически на весь спектр гуманитарных наук в самом широком смысле этого понятия. Для Фуко проблема безумия связана в первую очередь не с природными изъянами функции мозга, не с нарушением генетического кода, а с психическим расстройством, вызванным трудностями приспособления человека к внешним обстоятельствам (т. е. с проблемой социализации личности). Для него - это патологическая форма действия защитного механизма против экзистенциального «беспокойства». Если для «нормального» человека конфликтная ситуация создает «опыт двусмысленности», то для «патологического» индивида она превращается в неразрешимое противоречие, порождающее «внутренний опыт невыносимой амбивалентности»: «"беспокойство" - это аффективное изменение внутреннего противоречия. Это тотальная дезорганизация аффективной жизни, основное выражение амбивалентности, форма, в которой эта амбивалентность реализуется» (Foucault:1976, с. 40).
Но поскольку психическая болезнь является человеку в виде «экзистенциальной необходимости» (там же, с. 42), то и эта «экзистенциальная реальность» патологического болезненного мира оказывается столь же недоступной исторически-психологическому исследованию и отторгает от себя все привычные объяснения, институализированные в понятийном аппарате традиционной системы доказательств легитимированных научных дисциплин: «Патологический мир не объясняется законами исторической причинности (я имею в виду, естественно, психологическую историю), но сама историческая каузальность возможна только потому, что существует этот мир: именно этот мир изготовляет связующие звенья между причиной и следствием, предшествующим и будущим» (там же. с. 55).
Поэтому корни психической патологии, по Фуко, следует искать «не в какой-либо «метапатологии», а в определенных, исторически сложившихся отношениях к человеку безумия и человеку истины (там же, с. 2). Следует учесть, что «человек истины», или «человек разума», по Фуко, - это тот, для которого безумие может быть легко «узнаваемо», «обозначено» (т. е. определено по исторически сложившимся и принятым в каждую конкретную эпоху приметам, воспринимаемым как «неоспоримая данность»), но отнюдь не «познано». Последнее, вполне естественно, является прерогативой лишь нашей современности - времени «фукольдианского анализа». Проблема здесь заключается в том, что для Фуко безумие в принципе неопределимо в терминах дискурсивного языка, языка традиционной науки; потому, как он сам заявляет, одной из его целей было показать, что «ментальная патология требует методов анализа, совершенно отличных от методов органической патологии, что только благодаря ухищрению языка одно и то же значение было отнесено к «болезни тела» и «болезни ума» (там же. с. 10). Саруп заметил по этому поводу:
«Согласно Фуко, безумие никогда нельзя постичь, оно не исчерпывается теми понятиями, которыми мы обычно его описываем. В его работе «История безумия» содержится идея, восходящая к Ницше, что в безумии есть нечто, выходящее за пределы научных категорий; но связывая свободу с безумием, он, по моему, романтизирует безумие. Для Фуко быть свободным значит не быть рациональным и сознательным» (Sarup:1988, с. 69). Иными словами, перед нами все та же попытка объяснения мира и человека в нем через иррациональное человеческой психики, еще более долженствующая подчеркнуть недейственность традиционных, «плоско-эволюционистских» теорий, восходящих к позитивистским представлениям.
Проблематика взаимоотношения общества с «безумцем» («наше общество не желает узнавать себя в больном индивиде, которого оно отвергает или запирает; по мере того, как оно диагнозирует болезнь, оно исключает из себя пациента») (Foucault:1972a, с. 63) позволила Фуко впоследствии сформулировать концепцию «дисциплинарной власти» как орудия формирования человеческой субъективности.
Фуко отмечает, что к концу Средневековья в Западной Европе исчезла проказа, рассматривавшаяся как наказание человеку за его грехи, и в образовавшемся вакууме системы моральных суждений ее место заняло безумие. В эпоху Возрождения сумасшедшие вели как правило бродячий образ жизни и не были обременены особыми запретами, хотя их изгоняли из городов, но на сельскую местность эти ограничения не распространялись. По представлениям той эпохи «подобное излечивалось себе подобным», и поскольку безумие, вода и море считались проявлением одной и той же стихии изменчивости и непостоянства, то в качестве средства лечения предлагалось «путешествие по воде». И «корабли дураков» бороздили воды Европы, будоража воображение Брейгеля, Босха и Дюрера, Бранта и Эразма проблемой «безумного сознания», путающего реальность с воображаемым. Это было связано также и с тем, что начиная с XVII в., когда стало складываться представление о государстве как защитнике и хранителе всеобщего благосостояния, безумие, как и бедность, трудовая незанятость и нетрудоспособность больных и престарелых превратились в социальную проблему, за решение которой государство несло ответственность.
Через сто лет картина изменилась самым решительным образом - место «корабля безумия» занял «дом умалишенных»: с 1659 г. начался период, как его назвал Фуко, «великого заключения» - сумасшедшие были социально сегрегированы и «территориально изолированы» из пространства обитания «нормальных людей», психически ненормальные стали регулярно исключаться из общества и общественной жизни. Фуко связывает это с тем, что во второй половине XVII в. начала проявляться «социальная чувствительность», общая для всей европейской культуры: «Восприимчивость к бедности и ощущение долга помочь ей, новые формы реакции на проблемы незанятости и праздности, новая этика труда» (там же, с. 46).
В результате по всей Европы возникли «дома призрения», или, как их еще называли, «исправительные дома», где без всякого разбора помещались нищие, бродяги, больные, безработные, преступники и сумасшедшие. Это «великое заключение», по Фуко, было широкомасштабным полицейским мероприятием, задачей которого было искоренить нищенство и праздность как источник социального беспорядка: «Безработный человек уже больше не прогонялся или наказывался; он брался на попечение за счет нации и ценой своей индивидуальной свободы. Между ним и обществом установилась система имплицитных обязательств: он имел право быть накормленным, но должен был принять условия физического и морального ограничения своей свободы тюремным заключением» (там же. с. 48). В соответствии с новыми представлениями, когда главным грехом считались не гордость и высокомерие, а лень и безделье, заключенные должны были работать, так как труд стал рассматриваться как основное средство нравственного исправления.
К концу XVIII в. «дома заключения» доказали свою неэффективность как в отношении сумасшедших, так и безработных; первых не знали, куда помещать - в тюрьму, больницу или оставлять под призором семьи; что касается вторых, то создание работных домов только увеличивало количество безработных. Таким образом, замечает Фуко, дома заключения, возникнув в качестве меры социальной предосторожности в период зарождения индустриализации, полностью исчезли в начале XIX столетия.
Очередная смена представлений о природе безумия привела к «рождению клиники», к кардинальной реформе лечебных заведений, когда больные и сумасшедшие были разделены и появились собственно психиатрические больницы - asiles d&alienes. Они так первоначально и назывались: «приют», «убежище» и их возникновение связано с именами Пинеля во Франции и Тьюка в Англии. Хотя традиционно им приписывалось «освобождение» психически больных и отмена практики «насильственного принуждения», Фуко стремится доказать, что фактически все обстояло совершенно иначе. Тот же Сэмуэл Тьюк, выступая за частичную отмену физического наказания и принуждения по отношению к умалишенным, вместо них пытался создать строгую систему самоограничения; тем самым он «заменил свободный террор безумия на мучительные страдания ответственности... Больничное заведение уже больше не наказывало безумного за его вину, это правда, но оно делало больше: оно организовало эту вину» (там же, с. 247). Труд в «Убежище» Тьюка рассматривался как моральный долг, как подчинение порядку. Место грубого физического подавления пациента заняли надзор и «авторитарный суд» администрации, больных стали воспитывать тщательно разработанной системой поощрения и наказания, как детей. В результате душевнобольные «оказывались в положении несовершеннолетних, и в течение длительного времени разум представал для них в виде Отца» (там же. с. 254).
Возникновение психических больниц (в книге «Рождение клиники», 1963) (Foucault:1978b), пенитенциарной системы (в работе «Надзор и наказание», 1975) (Foucault:1975) рассматриваются Фуко как проявление общего процесса модернизации общества, связанной со становлением субъективности как формы современного сознания человека западной цивилизации. При этом ученый неразрывно связывает возникновение современной субъективности и становление современного государства, видя в них единый механизм социального формирования и индивидуализации (т. е. понимает индивидуализацию сознания как его социализацию), как постепенный процесс, в ходе которого внешнее насилие было интериоризировано, сменилось состоянием «психического контроля» и самоконтроля общества.
В определенном смысле обостренное внимание Фуко к проблеме безумия не является исключительной чертой лишь только его мышления - это скорее общее место всего современного западного «философствования о человеке», хотя и получившее особое распространение в рамках постструктуралистских теоретических представлений. Практически для всех постструктуралистов было важно понятие «Другого» в человеке, или его собственной по отношению к себе «инаковости» - того не раскрытого в себе «другого», «присутствие» которого в человеке, в его бессознательном, и делает человека нетождественным самому себе. Тайный, бессознательный характер этого «другого» ставит его на грань или, чаще всего, за пределы «нормы» - психической, социальной, нравственной, и тем самым дает основания рассматривать его как «безумного», как «сумасшедшего».
В любом случае, при общей «теоретической подозрительности» по отношению к «норме», официально закрепленной в обществе либо государственными законами, либо неофициальными «правилами нравственности», санкционируемые безумием «отклонения» от «нормы» часто воспринимаются как «гарант» свободы человека от его «детерминизации» господствующими структурами властных отношений. Так, Лакан утверждал, что бытие человека невозможно понять без его соотнесения с безумием, как и не может быть человека без элемента безумия внутри себя.
Еще дальше тему «неизбежности безумия» развили Делез и Гваттари с их дифирамбами в честь «шизофрении» и «шизофреника», «привилегированное» положение которого якобы обеспечивает ему доступ к «фрагментарным истинам». У Делеза и Гваттари «желающая машина» (желание) по сути дела символизирует свободного индивида - «шизо», который как «деконструированный субъект», «порождает себя как свободного человека, лишенного ответственности, одинокого и радостного, способного, наконец, сказать и сделать нечто просто от своего имени, не спрашивая на то разрешения: это желание, не испытывающее ни в чем нужды, поток, преодолевающий барьеры и коды, имя, не обозначающее больше какое-либо «это». Он просто перестал бояться сойти с ума» (Deleuze, Guattari: 1972, с. 131). Если спроецировать эти рассуждения на ту конкретно-историческую ситуацию, когда они писались - рубеж 60-х-70-х гг., - то их вряд ли можно понимать иначе, как теоретическое оправдание анархического характера студенческих волнений данного времени.
Отличное определение
Неполное определение ↓
Настоящий текст Мишеля Фуко является своего рода «авторефератом» его первой большой работы «История безумия». Опубликованный первоначально в авторитетном журнале «Табль Ронд «(Foucault M. La folie, l`absence de l`oeuvre // La Table Ronde. 1964. N 196. P.11-21), текст был включен в виде приложения в 3-е издание «Истории безумия «(1972 г.). Вместо комментария к переводу предлагается небольшое эссе «Образы литературы в “Истории безумия” М. Фуко» , открывающее серию статей С.Л. Фокина о литературных мотивах мысли Фуко в 60-е годы (Прим. переводчика).
Может быть, наступит такой день, когда перестанут понимать, что такое безумие. Эта фигура замкнется на себе, не позволяя более разгадывать следы, которые она оставит. А для несведущего взгляда будут ли сами эти следы чем то иным, нежели простыми черными отметинами? Вернее всего, они будут вписаны в конфигурации, которые сегодня нам никак не нарисовать, но которые в будущем станут необходимыми координатами прочтения нашего бытия и нашей культуры, нас самих. Тогда Арто будет принадлежать к почве нашего языка, а не к его разрыву; неврозы будут конститутивными формами нашего общества (а не отклонениями от них). И все то, что сегодня мы переживаем как нечто предельное, или странное, или невыносимое, достигнет безмятежной позитивности. И все Запредельное, Внеположенное, все, что обозначает ныне наши пределы, станет, чего доброго, обозначать нас самих.
Останется только загадка этой Внеположенности. Люди будут спрашивать себя, что же за странное разграничение играло нашей историей с глубокого Средневековья и вплоть до ХХ века, а может быть и дольше? Почему западная культура отбросила в сторону своих рубежей то, в чем она вполне могла узнать самое себя, то, в чем она себя действительно узнавала, правда, выбирая при этом окольные пути? Почему, ясно поняв в ХIX веке и даже раньше, что безумие образует обнаженную истину человека, она, тем не менее, оттеснила его в это нейтральное и неясное пространство, где его как будто бы и не было? И почему при этом надо было воспринять в себя слова Нерваля или Арто, почему надо было узнавать себя в словах, а не в поэтах?
Вот когда поблекнет живой образ пылающего разума. Привычная игра всматриваться в самих себя с другого края, со стороны безумия, вслушиваться в голоса, которые, приходя к нам из дальнего далека, говорят нам почти что нашу собственную истину, эта игра, с ее правилами, тактическими ходами, изобретательными уловками, допустимыми нарушениями ее законов, станет навсегда не чем иным, как сложным ритуалом, значения которого обратятся в пепел. Что-то вроде величественных церемоний потлатча в архаических обществах. Или причудливого двуличия практик колдовства и процессов над ними в XIV веке. В руках историков культуры останутся лишь сведения об узаконенных мерах принудительного заключения умалишенных и медицинском обслуживании, но, с другой стороны, о внезапном, ошеломительном включении в наш язык слова тех, кого исключали таким образом из общества.
Какова будет техническая опора такого изменения? Обретенная медициной возможность лечения психического заболевания как любую другую органическую болезнь? Точный фармакологический контроль всех психических симптомов? Или же достаточно строгое определение отклонений поведения, с тем, чтобы общество вполне могло предусмотреть для каждого из них подходящий способ нейтрализации? Или же возможны другие изменения, ни одно из которых не упразднит реально психическое заболевание, но всеобщий смысл которых будет направлен на то, чтобы стереть с лица нашей культуры образ безумия?
Мне прекрасно известно, что последняя гипотеза оспаривает общепринятые положения: о том, что развитие медицины сможет наконец уничтожить психическое заболевание, как это случилось с проказой и туберкулезом; однако все равно останется отношение человека к его наваждениям, к тому, что невозможно для его, к его нетелесному страданию, к ночному каркасу его существа; пусть даже патологическое будет выведено из обращения, все равно темная принадлежность человека к безумию останется в виде вечной памяти об этом зле, которое сгладилось как болезнь, но упорно сохраняется как страдание. По правде говоря, такая идея предполагает неизменным то, что является самым зыбким, много более зыбким, чем константности патологического: отношение культуры к тому, что ее исключается, точнее, отношение нашей культуры к той ее истине, далекой и противоположной, которую она открывает и скрывает в безумии.
Но что уж непременно умрет в скором будущем, что уже умирает в нас (и знаком смерти чего является наш язык), так это homo dialecticus, существо начала, возвращения и времени, животное, которое вдруг теряет свою истину, потом обретает ее, чужой себе человек, который снова к себе привыкает. Человек, который был суверенным субъектом и рабским объектом всех когда бы то ни было произнесенных речей о человеке и, в особенности, об умалишенном человеке, отчужденном от него. К счастью, он умирает, под звуки этой болтовни.
Так что перестанут понимать, каким образом человек смог отдалить от себя эту свою фигуру, как смог он вытеснить по ту сторону предела как раз то, что держалось на нем, и в чем он сам содержался. Ни одна мысль не сможет более помыслить это движение, в котором еще совсем недавно западный человек обретал свою протяженность. Навсегда исчезнет именно отношение к безумию (а не некое знание психического заболевания или некая позиция по отношению к заключенным домов для умалишенных). Будет понятно лишь следующее: мы, европейцы последних пяти столетий, на поверхности земли мы были теми людьми, которых, среди прочего, характеризовала такая фундаментальная черта, весьма странная среди прочих черт. Мы поддерживали с психическим заболеванием отношение глубокое, патетическое, неясное, может быть, для нас самих, но непроницаемое для других, отношение, в котором мы испытывали самую великую для себя опасность и самую, может быть, близкую истину. Будут говорить не то, что мы были на дистанции от безумия, но то, что мы были на самой дистанции безумия. Так же и греки: они не были далеки от не потому, что осуждали ее: скорее, они были в удалении той чрезмерности, в самом сердце этой дали, где они ее удерживали.
Для тех, кто уже не будет такими, как мы, останется эта загадка (что-то похожее происходит и с нами, когда мы пытаемся сегодня понять, как Афины могли отдаться власти чар безумного Алкивиада, а потом освободиться от нее): как люди могли искать свою истину, свое самое главное слово и свои знаки в том, что заставляло их трепетать, от чего они не могли не отвести глаз, едва только замечали? И это им покажется еще более странным, нежели испрашивать истину человека у смерти, ибо последняя говорит: все там будем. Безумие, напротив, - редкая опасность, тягость ее случайности никак не сравнить с тягостью наваждений, которые она порождает, с тягостью вопросов, которые ей задают. Каким образом в нашей культуре столь ничтожная возможность обрела такую власть разоблачительного ужаса?
Чтобы ответить на этот вопрос, те, кто уже не будет такими, как мы, у кого мы будем за плечами, не будут иметь слишком многого. Всего лишь несколько обуглившихся знаков: непрестанно повторявшийся страх, с которым люди смотрели, как поднимались воды безумия и затопляли весь мир; ритуалы исключения безумца из жизни и ритуалы включения его в жизнь; напряженное вслушивание XIX века, пытающегося схватить в безумии нечто такое, что могло говорить об истине человека; то же нетерпение, с которым отбрасывались и воспринимались речи безумцев, колебания в признании за ними либо пустоты, либо решительной значимости.
Все остальное: это единство в своем роде движение, в котором мы идем навстречу безумию, от которого удаляемся, это воля к установлению предела и желание искупить его в создании ткани единого смысла: все остальное обречено на безмолвие, как безмолвствует сегодня для нас греческая трилогия или психическое состояние шамана в каком-нибудь примитивном обществе.
Мы подошли к такому пункту, к такому сгибу времени, когда известный технический контроль болезни скорее прикрывает, нежели обозначает движение, в котором замыкается в себе опыт безумия. Но именно этот сгиб позволяет нам обнаружить то, что веками оставалось неявным: психическое заболевание и безумие - это две различные конфигурации, которые сомкнулись и перепутались в XVII веке, и которые теперь расходятся на наших глазах, точнее, в нашем языке.
Если мы говорим, что в наши дни безумие исчезает, то это значит, что распутывается смешение, в котором безумие воспринималось и из психиатрического знания и из антропологической рефлексии. Но это не значит, что исчезает трансгрессия, зримым ликом которой веками было безумие. Не значит это и того, что трансгрессия - в то самое время, когда мы спрашиваем себя, что же такое безумие - не может повлечь какого-то нового опыта.
Нет ни одной культуры в мире, где было бы все позволено. Давно и хорошо известно, что человек начинается не со свободы, но с предела, с линии непреодолимого. Известны системы, которым подчиняются запретные поступки; в каждой культуре можно было выделить режим запретов инцеста. Однако гораздо хуже известна организация запретов в языке. Ибо две системы ограничений не совпадают, как могло бы быть в том случае, если бы одна была вербальным вариантом другой: то, что не должно появиться на уровне слова, не обязательно запрещено в плане деяния. Индейцы зуни, которые воспрещают его, рассказывают об инцесте брата и сестры; греки - легенду об Эдипе. Напротив, Кодекс 1808 г. отменил старые уголовные статьи, направленные против содомии; но язык XIX века был гораздо нетерпимее к гомосексуализму (по крайней мере, в мужском его варианте), нежели в предыдущие эпохи. Весьма вероятно, что психологические концепции компенсации и символического выражения никак не могут объяснить подобный феномен.
Следует когда-нибудь специально разобрать эту область языковых запретов. Несомненно, однако, что время такого анализа еще не наступило. Разве можно использовать нынешние языковые разграничения? Разве можно выделить - на пределе запретного и невозможного - эти законы лингвистического кодекса (то, что столь красноречиво называют языковыми погрешностями); затем внутри кодекса, среди существующих слов или выражений, выделить те, которые оказались под запретом произнесения (религиозная, сексуальная, магическая серии богохульных слов); затем - речения, которые будто бы разрешены кодексом, позволены в речевых актах, но значения которых непереносимы в данный момент для данной культуры: ведь в этом случае метафорический оборот или изворот невозможен, ибо сам смысл становится объектом цензуры. Наконец, существует четвертая форма исключенного языка: она заключается в том, что слово, с виду соответствующее признанному языковому кодексу, соотносят с другим кодом, ключ к которому дан в самом этом слове: таким образом слово раздваивается внутри себя - оно говорит то, что говорит, но добавляет безмолвный излишек, который без слов говорит то, что говорит, и код, согласно которому он это говорит. В данном случае речь идет не о шифрованном языке, но структурально эзотерическом языке. То есть, он не сообщает, скрывая его, какой-то запретный смысл; он сразу же уходит в сущностную даль речи. Даль, которая опустошает его изнутри, и, возможно, до бесконечности. В таком случае, какая разница, что говорится на таком языке, какие смыслы в нем открываются? Именно такое темное и центральное освобождение слова, его бесконтрольное бегство к беспросветному источнику не может быть допущено ни одной культурой в ближайшем времени. Не по смыслу, не по своей вербальной материи такое слово будет преступным, трансгрессивным - сама игра его будет трансгрессией.
Весьма вероятно, что любая культура, какова бы она ни была, знает, практикует и терпит (в известной мере), но в то же время подавляет и исключает эти четыре формы запретов слова.
В западной истории опыт безумия долго перемещался вдоль этой планки. По правде говоря, безумие долгое время занимало очень неясное место, которое нам довольно трудно уточнить: оно располагалось между запретом слова и запретом деяния. Вот откуда наглядная значимость пары futor-inanitas, которая практически организовала мир безумия, просуществовавший вплоть до Ренессанса. Эпоха Великого Заточения (создание городских приютов, Шарантона, Сен-Лазара в XVII веке) знаменует перемещение безумия в область бессмыслия: безумие связано с запретными деяниями лишь моральным родством (она сохраняет существенные отношения с сексуальными запретами), однако его замыкают область языковых запретов; интернирование классической эпохи замыкает в одних стенах с безумием либертенов мысли и слова, упрямцев нечистивости и еретиков, богохульников, колдунов, алхимиков - одним словом, все, что относится к речевому и запретному миру неразумия; безумие - это исключенный язык; это тот язык, который вопреки языковому кодексу произносит слова без смысла («безумцы», «слабоумные», «невменяемые»), или сакрализованные изречения («одержимые», «буйные»), или же слова исполненные запретного смысла («либертены», «нечистивцы»). Реформа Пинеля - не столько изменение этой системы репрессии безумия как запретного слова, сколько ее зримое завершение.
Настоящим измерением системы мы обязаны Фрейду: благодаря ему безумие переместилось к последней форме языкового запрета, о котором мы говорили выше. Тогда безумие перестало быть грехом слова, богохульной речью или каким-то запрещенным смыслом (и вот почему психоанализ оказывается великим снятием определенных самим Фрейдом запретов); безумие возникло теперь как обволакивающее себя слово, говорящее - сверх того, что оно говорит, - что-то другое: то, единственным кодом чего может быть только оно само - вот он, если угодно, эзотерический язык, и основа его содержится внутри слова, которое, в конечном итоге, не говорит ничего другого, кроме этой взаимоподразумеваемости.
Стало быть, следует относиться к мысли Фрейда так, как она того заслуживает: она не говорит того, что безумие захвачено цепью значений, сообщающихся с повседневным языком, позволяя таким образом говорить о безумии с присущей психологическому словарю повседневной пошлостью. Она смещает европейский опыт безумия в эту гибельную, все время трансгрессивную область (стало быть, вновь запретную, но на этот раз особенным образом): эта область взаимоподразумевающих себя языков, то есть тех, которые изрекают в своей речи один только язык, на котором они его изрекают. Фрейд не открывал потерянную идентичность смысла; он очертил ошеломительную фигуру такого означающего, которое абсолютно не такое, как другие. Вот что должно было бы предохранить его мысль от всех псвдопсихологических интерпретаций, которыми она была прикрыта в нашем столетии во имя (жалкое) «гуманитарных наук» и их бесполого единства.
Именно из-за этого безумие явилось не как уловка скрытого значения, но как восхитительное хранилище смысла. Но при этом следует понять слово «хранилище» в надлежащем смысле: не столько как какой-то запрос, сколько - и в гораздо большей степени - фигура, которая удерживает и подвешивает смысл, устанавливает некую пустоту, в которой возникает еще не осуществившаяся возможность того, что там найдет себе место какой-то смысл, или же другой, или, наконец, третий - и так, возможно, до бесконечности. Безумие открывает эти пробелы хранилища, которые обозначают и обнаруживают ту пустоту, где язык и речь, подразумевая друг друга, формируются исходя друг из друга и не говорят ничего другого, кроме этого пока безмолвного их отношения. Начиная с Фрейда западное безумие утратило языковой характер, поскольку превратилось в двойной язык (язык, который существует лишь в своей речи, речь, которая изрекает лишь свой язык) - то есть матрицу языка, которая в строгом смысле ничего не говорит. Сгиб говорения, которое ничего не говорит, ничего не творит, отсутствие творения.
Надо будет как-нибудь воздать должное Фрейду: он отнюдь не заставил говорить безумие, которое веками как раз и было языком (языком исключенным, болтливой тщетой, речью, незримо окаймлявшей продуманное безмолвие разума); напротив, он исчерпал неразумный Логос безумия; он иссушил его; заставил отойти слова безумия к их источнику - к этой белой области самоподразумевания, где ничего не говорится.
Еще неясный свет падает на происходящее сегодня; можно увидеть, однако, как в нашем языке вырисовывается странное движение. Литература (несомненно, начиная с Малларме) мало-помалу сама становится языком, речь которого изрекает - одновременно с тем, что она говорит и в одном и том же движении - язык, на котором ее можно разгадать как речь. До Малларме писатель устанавливал свою речь внутри данного языка: таким образом, литературное произведение имело природу, общую со всяким другим языком, почти те же самые знаки (безусловно, они были величественными), что и Риторика, Сюжет, Образы. В конце XIX века литературное произведение стало речью, записывающей в себе принцип своего расшифрования; или, во всяком случае, оно предполагало - в каждой своей фразе, в каждом из своих слов - способность суверенно менять ценности и значения языка, к которому оно все же принадлежит (по справедливости); оно приостанавливало власть языка в самом жесте современного письма.
Вот откуда необходимость этих вторичных языков (то, что в общем называют критикой): они больше не функционируют как внешние дополнения к литературе (оценки, суждения, опосредования, связи, которые считали необходимым установить между произведением, отсылавшимся к психологической загадке его создания, и его потреблением в акте чтения); отныне в самом сердце литературы они принимают участие в пустоте, которую она устанавливает в своем собственном языке; они образуют необходимое движение - по необходимости незавершенное - в котором речь отводится к своему языку, и в котором язык устанавливается речью.
Вот откуда к тому же это странное соседство безумия и литературы, которое ни в коем случае нельзя понимать в смысле обнаженного наконец психологического родства. Открывшееся как язык, который замалчивает себя, поскольку сам на себя накладывается, безумие не может ни обнаружить, ни дать слова какому-то творению (ни чему-то такому, что при участии гения или удачи могло бы стать творением); оно обозначает пустоту, из которой исходит это творение, то есть место, в котором оно непрестанно отсутствует, в котором его никогда нельзя найти, поскольку оно там никогда не находилось. Там - в этой бледной области, в этом сущностном укрытии - разоблачается близнецовая несовместимость творения и безумия; это слепое пятно их обоюдной возможности и их взаимного исключения.
Однако, начиная с Русселя и Арто, к этому месту подступает также язык литературы. Но он не подступает к нему как к чему-то такому, что он должен изречь. Пора заметить, что язык литературы определяется не тем, что он говорит, не структурами, которые делают его значащим. Он имеет свое существо, и вопрошать его надо об этом существе. Какое оно теперь? Несомненно, это нечто такое, что имеет дело с самоподразумеванием, с двойственностью и с пустотой, в которую он углубляется. В этом смысле существо литературы, как оно производит себя начиная с Малларме и как оно доходит до нас, достигает этой области, где осуществляется - благодаря Фрейду - опыт безумия.
В глазах не знаю, правда, какой культуры - но, может быть, она уже очень близка - мы будем теми, кто ближе всего подошел к этим двум фразам, которые никто еще по-настоящему не произносил, этим двум фразам столь же противоречивым и невозможным, как знаменитое «я лгу», фразам, которые обе обозначают одну и ту же пустую самоотсылку: «я пишу» и «я брежу». Тогда мы будем фигурировать наряду с тысячей других культур, которые приближались к фразе «я безумен», или «я зверь», или «я бог», или «я обезьяна», или еще «я истина», как это было в XIX веке вплоть до Фрейда. А если у этой культуры будет вкус к истории, она вспомнит о том, что Ницше, обезумев, провозгласил (это было в 1887 г.), что он - истина (почему я так мудр, почему я так умен, почему я пишу такие хорошие книги, почему я являюсь роком); и о том, что пятьдесят лет спустя Руссель накануне своего самоубийства написал книгу «Как я написал некоторые из моих книг», повествование, сродненное с его безумием и техникой письма. И несомненно будут удивляться, как это мы смогли признавать столь странное родство между тем, что отвергалось как крик, и тем, что слушалось как пение.
Возможно, однако, что подобное изменение не заслужит никакого удивления. Это мы сегодня удивляемся тому, как сообщаются эти два языка (язык безумия и язык литературы) несовместимость которых была установлена нашей историей. Начиная с XVII века безумие и психическое заболевание занимали одно и то же пространство исключенных языков (в общем, пространство бессмыслия). Входя в другую область исключенного языка (в область, очерченную, освященную, грозную, вздыбленную, обратившуюся на себя в бесполезном и трансгрессивном Сгибе, область, называемую литературой) безумие освобождается от своего древнего или недавнего - согласно избранной перспективе - родства с психическим заболеванием.
Последнее, несомненно, перейдет в техническое все лучше и лучше контролируемое пространство: в клиниках фармакология уже преобразовала палаты для буйных в покойные аквариумы. Но помимо этих преобразований и по причинам явно странным (по крайней мере, для нашего современного взгляда) наступает развязка: безумие и психическое заболевание прикрывают свою принадлежность к одной антропологической единице. Сама единица эта исчезает, вместе с человеком, этим временным постулатом. Безумие - лирический ореол заболевания - постепенно угасает. А вдали от патологического, со стороны языка - там, где он изгибается, ничего пока не говоря, зарождается опыт, в котором дело идет о нашей мысли; его уже очевидная, но абсолютно пустая неминуемость не имеет пока имени.
Если это безумие, то в нем есть система
Со староанглийского: Though this be madness, yet there is method in it.
Из трагедии «Гамлет» Уильяма Шекспира (1564-1616), слова Полония о поведении принца Гамлета (действ. 2, явл. 2).
Употребляется:
как призыв более внимательно рассмотреть мотивы чьих-либо странных, непонятных действий (шутл.-ирон.).
В настоящее время, когда фраза цитируется на языке оригинала, она обычно звучит в переводе на современный английский язык. Одна из версий такого перевода: Не may be mad, but there\"s method in his madness.
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. - М.: «Локид-Пресс» . Вадим Серов . 2003 .
Смотреть что такое "Если это безумие, то в нем есть система" в других словарях:
Понятие, приобретающее собственно философскую и культурологическую размерность в контексте выхода книги Фуко ‘История безумия в классическую эпоху’ (1961). Осмысливая генезис современного европейского человека, Фуко анализирует становление… …
безумие - Франц. folie, deraison. Кардинальное понятие в системе мышления и доказательств М. Фуко. Согласно Фуко, именно отношением к безумию проверяется смысл человеческого существования, уровень его цивилизованности, способность человека к самопознанию и … Постмодернизм. Словарь терминов.
БЕЗУМИЕ Социология: Энциклопедия
Понятие, приобретающее собственно философскую и культурологическую размерность в контексте выхода книги Фуко История безумия в классическую эпоху (1961). Осмысливая генезис современного европейского человека, Фуко анализирует становление феномена … История Философии: Энциклопедия
- (Cohen) Герман (1842 1918) немецкий философ, основатель и виднейший представитель марбургской школы неокантианства. Основные работы: ‘Теория опыта Канта’ (1885), ‘Обоснование Кантом этики’ (1877), ‘Обоснование Кантом эстетики’ (1889), ‘Логика… … История Философии: Энциклопедия
Представление о сновидении как особом способе косвенного и образного выражения смыслов “невидимого мира” внутр. жизни нашего сознания и психики. Сновидение метафорично по природе и одновременно само служит метафорой для понимания опр.… … Энциклопедия культурологии
Литература эпохи феодализма. VIII X века. XI XII века. XII XIII века. XIII XV века. Библиография. Литература эпохи разложения феодализма. I. От Реформации до 30 летней войны (конец XV XVI вв.). II От 30 летней войны до раннего Просвещения (XVII в … Литературная энциклопедия
Путеводитель - Путеводитель состоит из десяти статей, суммирующих взгляды Лема по тем вопросам, к которым он неоднократно обращался в своих текстах и к которым подходил, как к проблемам. Частота обращения сама по себе не может быть аргументом у Лема есть… … Мир Лема - словарь и путеводитель
ЗЛО - [греч. ἡ κακία, τὸ κακόν, πονηρός, τὸ αἰσχρόν, τὸ φαῦλον; лат. malum], характеристика падшего мира, связанная со способностью разумных существ, одаренных свободой воли, уклоняться от Бога; онтологическая и моральная категория, противоположность… … Православная энциклопедия
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Император Александр II (1855—1881). I. Война (1855). Высочайший манифест возвестил России о кончине Императора Николая и о воцарении его преемника. В этом первом акте своего царствования молодой Государь принимал пред лицом… … Большая биографическая энциклопедия
Слово «безумие» используется многими людьми. В то время как психиатры определяют данным словом психическое расстройство, простые люди называют всех, кто не вписывается в их картину мира, безумцами. Чтобы понять, о безумии ли идет речь, необходимо знать признаки, через которые оно проявляется. У безумия есть множество причин для проявления, однако существуют вполне конкретные способы лечения.
Простой человек любит разбрасываться словом «безумцы», далеко не всегда понимая, что оно обозначает. Говоря о безумии в прямом значении данного слова, речь идет о серьезном психическом отклонении от нормы, когда человек просто теряет рассудок. Это тяжелое расстройство психики, которое лишает рассудка больного человека, а его близких награждает страданиями и мучениями.
Безумие можно назвать потерей каких-либо знаний, понимания окружающего мира, реального его восприятия, способности логически мыслить, контактировать с окружающими людьми, придерживаться социальных норм и пр. Ранее под термином «безумие» понимались абсолютно все психические расстройства, которые на сегодняшний день выделяются как отдельные болезни, о которых можно прочитать в других статьях интернет-журнала сайт:
- Судороги.
- Склонность к асоциальному поведению.
- Попытки самоубийства.
- Контузии.
- Последствия черепно-мозговых травм и пр.
Теперь неправильно используют данное понятие лишь люди, которые не разбираются в значении данного слова. Чтобы не быть безумцами из-за собственной неосведомленности, предлагаем рассмотреть данное заболевание в статье.
Что такое безумие?
Понятием безумие пользуются уже давно. Его современным аналогом является термин «сумасшествие». Что они обозначают? Под ними понимается утрата ума. Индивид, болеющий безумием, сошел с ума либо потерял рассудок. Он выходит своим поведением и мыслительной деятельности за рамки, принятые в обществе.

На сегодняшний день термин «безумие» в психиатрии и медицине практически не используется, поскольку является старым определением многих психических отклонений. Однако в разговорной речи многие обычные люди применяют данное слово в качестве оскорбления лиц, с чьими идеями или поступками они не согласны либо не способны понять.
Классификация безумия зависит от множества факторов его проявления:
- По влиянию на окружающих:
- Полезное безумие: восторг, дар предвидения, художественное вдохновение, экстаз.
- Вредное безумие: ярость, мания, истерия и иные помешательства, которые заставляют больного причинять окружающим вред или урон.
- По характеру течения:
- – длительное пребывание в подавленном состоянии, душевных терзаниях, апатии, удрученности, вялости, полном безразличии к окружающему миру. Длительное время индивид страдает и мучается душевно.
- Мания – помешательство, которое выражается в восторге, эйфории, повышенной возбудимости, физической подвижности.
- – патологическая реакция, проявляющаяся в агрессии и крайнем возбуждении. Индивид может совершать импульсивные поступки в состоянии ярости, которые ведут к негативным последствиям.
- По степени тяжести:
- Слабое безумие – симптомы проявляются редко и нечетко.
- Серьезное безумие – когда симптомы часто, явно проявляются и не поддаются самоконтролю.
- Острое безумие – сильные и хронические психические расстройства.
Безумие часто приписывается людям с неординарным мышлением. Вспомним известные в истории события, когда ученые делали какие-то открытия, однако общество их не признавало. Лишь после смерти ученого люди приходили к пониманию того, что его исследования и теории были правильными. Однако пока он был жив, его считали безумцем.
Часто безумие сочетают со словом гениальность. К примеру, Эйнштейн считается психическим больным человеком, который страдал не только от безумия, но и от необоснованной агрессии и аутизма. Однако именно он сделал серьезные открытия в области физики.
Не каждый гениальный человек является психическим больным безумием. Просто общество может не понимать его идей. Однако это не делает его больным и нуждающимся в лечении.
Не каждый безумец является гениальным человеком. Лишь психиатры могут привести множество примеров из своей практики, когда их пациенты ничего не изобретали и не делали открытий, а просто являлись больными – лишенными ума, рассудка.
Подходя к теме безумия с идеалистической позиции, можно сказать, что безумие является особым видением мира. Если говорить о больном человеке, то болезни головного мозга приводят к нарушению восприятия мира. Такое состояние необходимо лечить. Если говорить о здоровом человеке, тогда он сначала смотреть иначе на окружающий мир, что сделало его в глазах окружающих безумцем. Такое состояние не нужно лечить, поскольку оно является не болезнью, а особым, необычным взглядом на мир.
Почему человек становится безумным?
Во все времена люди наблюдали безумцев. Ранее давалось две трактовки того, почему человек становится безумным:
- Кара небесная – когда человек наказывал Бог, насылая на него безумие.
- Вселение бесов – человеком овладевают злые силы, что делает его сумасшедшим. Такие картины можно наблюдать в фильмах, где из людей изгоняют бесов.
Еще одним фактором появления безумия люди называли божий дар. Однако это происходило в исключительных случаях, когда новые знания или способности человека приносили пользу обществу.

Современные психологи по-другому объясняют развитие сумасшествия:
- Неправильный образ жизни, когда человек постоянно сталкивается с каким-то горем, несчастьями, разочарованием. Если на человека постоянно воздействуют негативные факторы, его мышление меняется с целью обрести баланс в тех «безумных» условиях, в которых психика находится.
- Физические факторы, болезни, например, нарушение нейромедиаторного баланса или черепно-мозговые травмы.
- Несоответствие души и тела. Когда человек не живет в согласии с телом, душой и окружающим миром, его восприятие искажается. Такое явление часто встречается среди здоровых людей в легкой форме, которые закрывают глаза на неприятности, ослеплены шаблонами и стереотипами. Однако болезненная форма проявляется в настоящем искажении восприятия мира.
- Душевные переживания сильного характера. У всех людей случаются горе и неприятности. Однако до безумия могут привести сильные душевные страдания, когда человек замыкается, уединяется, отказывается от социальной жизни и длительное время проводит один на один со своим горем.
Как проявляется безумие?
Безумие бывает разным, как и его проявления. Однако самыми главными признаками, по которым его можно распознать, являются:
- Искаженное восприятие реальности.
- Неадекватное поведение, которое сильно отличается от общественного.
- Неспособность контролировать собственные поступки.
Безумие проявляется особенно, однако его невозможно ни с чем перепутать. Больной может нападать на окружающих, пугать их вспышками гнева или агрессивностью, может сам пребывать в страхе, не будучи способным объяснить причины. Человек в состоянии безумия совершает повторяющиеся действия. Его сознание отключено, он абсолютно не думает, не рассуждает, хотя он все это делает, однако в его мыслительной деятельности нет никакой логики и последовательности.

Меланхолическое сумасшествие появляется в следующих симптомах:
- Апатия.
- Подавленность.
- Отрешенность.
- Уход в себя от внешнего мира, который якобы перестает существовать.
- Отсутствие реакции на внешние раздражители.
- Отсутствие контактов с людьми.
В некоторой степени человек страдает галлюцинациями и различными проявлениями расстройства восприятия. Он живет в своем вымышленном мире, который может лишь частично совпадать с реальным. Больной может не знать, какая сегодня дата, в каком городе он проживает, кем был и чем занимался до болезни. Галлюцинации являются яркими: больной что-то может слышать, видеть или чувствовать у себя под кожей.
Общую симптоматику болезни врачи не могут выделить, поскольку все зависит от того вида безумия, которое наблюдается у человека. Начало болезни определяется такими симптомами:
- Потеря самоконтроля.
- Отсутствие самокритики.
- Резкая смена настроения, у которой нет объективных причин.
- Разговор больного с самим собой, будто он общается с другим человеком.
Человек становится неспособным контролировать свои эмоции (гнев, ярость, страх, злоба), что проявляется в виде аффективного поведения. Больной становится неспособным контролировать свои поступки, которые являются бессмысленными и направленными на удовлетворение инстинктивных потребностей. При этом становится неважно, к каким последствиям они приведут.
Человек может путать, где есть реальность, а где ему что-то кажется и видится. Восприятие становится искаженным и спутанным, что вызывает расстройство мышления и потерю рассудка.
Лечится ли безумие?
В древние времена люди не могли объяснить безумие, поэтому спасались от него верой в богов или одного Бога. Религия должна была защитить то, что в представлениях многих народов носит уродливый характер. Безумцы вызывали страхи и опасения. Тогда никто не мог их излечить, кроме как молитвами или заклинаниями. Лишь в редких случаях к безумию относились положительно, когда человек в данном состоянии творил или приносил пользу.

Безумие существует многие века, поэтому и способы его лечения разрабатывались различные:
- Трепанация черепа.
- Удаление матки.
- Лоботомия.
- Женское обрезание.
Многие из способов лечения, которые применялись для лечения любого вида безумства, можно сравнить с издевательствами и пытками. Применение шоковой терапии, использование различных инструментов, отрезания, пробивания или нанесение увечий телу. Каждый ученый старался найти свой способ избавления людей от безумия, чем еще больше лишал их рассудка.
Современная медицина включает медикаментозное лечение и психологическую терапию. Шоковая терапия видоизменилась до использования наркоза. Некоторых душевнобольных помещают в психиатрические поликлиники, которые не имеют ничего общего с теми домами, в которых раньше помещали безумцев.
Итоги безумия
Каждый человек немножко безумен уже просто потому, что старается быть индивидуальностью, иначе смотреть на мир, видеть нечто новое. Это не нужно лечить. Наоборот, это поощряется. Однако болезненные формы безумия следует лечить или давать право на существование, исключая такие формы пыток, которыми ранее лечили душевнобольных.
В зависимости от отношения общества к безумию, к больным применяются те или иные методы. Если говорить о здоровом человеке, то его безумие может стать одной из форм гениальности.