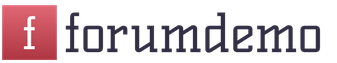Читай город долецкая не жизнь а сказка. Бестселлер января: секреты жизни в розовых тонах. О книге «Не жизнь, а сказка» Алёна Долецкая
© Алёна Долецкая, текст, оформление, 2017
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
* * *
«Расскажи, ну расскажи ещё какую-нибудь историю», – бесконечно просил Артём Долецкий, мой племянник.
Ему посвящаю эту книжку.
«Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное».
Далай лама
А. Долецкая, 1973 г.
Объяснительная записка
Никакую книгу я писать не собиралась. Ни художественную, ни мемуарную, ни публицистическую. Кто я такая? Девочка из интеллигентной московской семьи, с классическим университетским образованием и недурным воспитанием. Довольно везучая. Успеха не ждала, просто на него работала. И хотя трудилась всё больше в высших, так сказать, эшелонах культуры и бизнеса, уверяю вас, не все мы, глянцевые девочки, какаем розами.
У меня есть любимое занятие: сидеть на веранде с друзьями и «травить байки». Летом там тенисто и прохладно, падают шишки с сосен, белки хрустят сухарями и семечками, сойки суетятся у кормушек. Мы гоняем чёрные, зелёные и белые чаи с моим клубничным или земляничным вареньем, а иногда и с чем покрепче, вспоминаем истории из жизни. Мои истории все очень любят. Обязательно кто-то говорит: «Алён, ну расскажи ту историю, ну ещё разочек». У друзей и родных есть свои любимые байки. Иногда они перебивают: «Нет-нет-нет, он сначала вошёл, а потом уже…» Они исправляют цвет волос, который был у кого-то из персонажей, год события, название духов, детали нижнего белья. «Слушай, сама расскажи, ты уже лучше эту историю знаешь, чем я», – говорю я в ответ. Не проходит номер.
Эти сказки-байки благодаря моим друзьям обросли первородными запахами и оттенками. Ритуал стал частью дачной магии.
Неожиданно я поняла, что этих историй собралось много, а главное – что у меня появилась возможность не рассказывать в сорок пятый раз одну и ту же сказку-байку. И получше вспомнить полузабытые. Совсем не всегда разухабисто смешные, иногда страшные и грустные, но зато настоящие. Я решила их записать.
Даты – моё слабое место, так что хроники века не ждите.
В народных сказках, которые я читаю до сих пор, помимо разнообразной мудрости, всегда есть превращения и преображения. Сидела лягушкой в углу, ударилась оземь и обернулась Василисой Премудрой. Тыква превращается в карету, чудище – в принца. Вот и я вам расскажу про свои превращения, иногда волшебные, иногда не очень. Но зато никакой лжи, никаких намёков. Всё по правде.
Не бойтесь, не всю правду, конечно. Да и не всё вспомнила. Сказки ведь чем хороши? Превращения бесконечны, и сказка рождает сказку.
Так что, кто знает, может, и будет продолжение. А пока – поехали.
Раз. Два. Три.
Раз
Огненный коктейль
Иду я с друзьями на антикварный рынок в Измайлово, одета ничего особенного, в уггах или кроссовках, джинсы, куртка-пальто, в чем на рынок-то ездить? И только вопьюсь глазами в старинные русские рюмочки резного стекла, продавцы мне тут же:
– Please, please, ten dollars, ten dollars only!
– А что это вы по-английски? Я русская, и не парьте мне ten dollars, давайте на рубли и пополам.
– Ой, а я думал иностранка…
С чего бы я иностранка-то? Родилась и выросла в Москве, больше чем на месяц вообще из России не отлучалась. Но ласкаю себя мыслью, а может, тут всё не так просто? Может, там, как у Де Костера, «Пепел Клааса стучит в моем сердце?» Может, моя английская прабабушка Хедвиг Хайтон сказать что хочет?
С Хедвиг какая история была. Живёт она себе поживает в 1900-х годах то ли в Сассексе, то ли в Саффолке со своим мужем, лордом Хайтоном. Рожает леди Хедвиг Хайтон двоих детей, ухаживает за розами, следит за регулярным цветением трёхметровых рододендронов и принимает вечером друзей мужа. Заезжает к ним как-то погостить коллега по бизнесу лорда Хайтона, успешный предприниматель-золотодобытчик, поляк дворянских кровей Станислав Станевич. Как говорит семейное предание, красоты, обаяния, яркости и безбашенности необыкновенной… И – влюбляется в прабабушку, а она, ох, – в него. Он взял и увёз Хедвиг от лорда.
Увёз в Россию, в Санкт-Петербург, потому что в то время добывал золото и серебро на Русском Севере. Прабабушка ходила в англиканскую церковь, но так и не выучила русский язык, и очень любила своего мужа. А потом они уехали в Польшу, где и родилась моя любимая бабушка, Софья Станевич.
Милая история межнациональной любви. Я чту её память, и единственный сохранившийся портрет папы с прабабушкой у меня на стене. Она совсем непохожа на классическую подсохшую английскую леди с поджатыми тонкими губами. Крупный нос, широко открытые глаза. Выдаёт прямая спина и строгий взгляд. А так – вполне бы сошла за дворянку из Саратовской губернии.
Но есть один огорчительный момент. У английской аристократии в то время был закон: если жена развелась с мужем, никакого ей наследства от совместной жизни не достанется, и титулу её тоже – до свидания. Бог с ним, с титулом, а вот родственников и фамильный особняк я бы, конечно, поискала. Да всё как-то не складывается. Вот я и думаю, может, стучится моя прабабушка, напоминает, что надо розысками заняться?
«А почему это дальние родственники меня сами не находят? – думаю. – Что за дела?! Заходите к нам сами, Хайтоны! Я вас обогрею».
«Фу-у, откуда эта самоуверенность?! – снова сама себе».

Хедвиг Хайтон и Станислав Долецкий. 1922 г.
Понятно! Взыграла во мне польская кровь. Папа ведь по паспорту был поляк, и когда родители хотели, чтобы мы с братом не понимали, о чём они между собой говорят, – всегда переходили на польский. К ним по подписке даже приходил юмористический журнал Szpilki, родители его читали и всегда вдвоём хохотали.
Но совсем не всегда моим предкам – гордым полякам – приходилось весело. Мягко выражаясь.
Дедушка, папин папа, Яков Генрихович Долецкий родился в Варшаве, прямо со школьной скамьи, в шестнадцать лет, вступил в Социал-демократическую партию Литвы и Польши. С 1917 года – член ВЦИК и в 1922-м возглавил информагентство РОСТА, которое потом стало называться ТАСС. Пережил до того не один арест и не одну ссылку и в целом всю свою сознательную жизнь посвятил строительству самого счастливого строя на Земле. После звонка своего друга в 1937-м («Яков, арестованы наши друзья. Похоже, ты следующий») он оставил два письма, моему отцу и Сталину, и застрелился. Через сорок минут после того, как дед покончил с собой, пришли энкавэдэшники и забрали все письма.
Бабушка, папина мама, Софья Станиславовна Станевич, дочь того самого безбашенного польского дворянина-разлучника, тоже служила делу революции. В 1918 году вышла замуж за Якова и тоже строила с ним светлое будущее нашей страны. Но когда в середине 30-х годов дед, к тому времени уже руководитель ТАСС, стал ездить на работу в Кремль на роллс-ройсе, она сказала: «Я не хочу больше с тобой жить. Ты на чём домой приехал? Ясно. Ты предал идеи революции».

Яков Долецкий, 1931 г.
Забрав своего сына, то есть моего папу, они переехали жить на Петровку, а дед остался жить в Доме на набережной.
Человек она была тонкий, образованный, блистательно играла на фортепиано, свободно владела шестью языками. Бабушка работала у Лазаря Кагановича, наркома путей сообщения, и, похоже, занималась для молодой России международным промшпионажем. Строительство железных дорог и прочая инженерия требовали серьёзных знаний и опыта, который уже был в европейских странах. Однажды за обсуждением вопросов развития железнодорожной сети Софья Станиславовна плеснула Кагановичу чернилами в лицо (видимо, проявил себя как непорядочный или как монстр, каким он и был по сути, а может, и приставал). И, разумеется, была тут же уволена. После этого – зарабатывала частными уроками языков и музыки.
В 37-м, вскоре после смерти деда, её арестовали за «распространение антисоветских анекдотов», чего никогда, разумеется, с ней не происходило и произойти не могло. Семнадцатилетнего отца вызвали на Лубянку и сказали: «Твоя мама утверждает, что никогда анекдотов не рассказывала». И отец говорит: «Клянусь вам здоровьем, я с мамой прожил всю жизнь – она верный и чистый человек, и никаких анекдотов в нашем доме не было». Тогда энкавэдэшники показали Софье Станиславовне, кто у них сидит на допросе, и сказали: «Видите, там ваш сын. Либо признайтесь, либо мы сами с ним разберёмся». Она всё поняла и без единой паузы сказала: «Виновата, рассказывала». Она провела в ГУЛАГе семнадцать лет, прошла лагеря от Мурманска до Средней Азии.
В начале 1950-х она вернулась в Москву. И однажды попросила отца поехать с ней на Ленинские горы – вдвоём, без свидетелей.
– Я должна тебе сказать одну страшную вещь. Сталин – преступник.
Эта история меня поразила вовсе не её откровением про Сталина, но её горячим желанием искренне признаться отцу в этом – где? – на Ленинских Горах, чтобы никто не мог их услышать. Такие были времена.
Прошло с тех пор больше полувека. Мы общаемся в фейсбуках, твиттерах, телеграммах и прочих WhatsApp. Но недавно я начала замечать, что, когда люди хотят поговорить о чем-то серьёзном и важном, они или выключают телефон, или куда-то его уносят. Выходит, пройдя тоталитаризм, заглушки и запреты, мы возвращаемся к другому всемирному колпаку www, под которым нас все видят и слышат. Мне-то скрывать нечего, но если я иду первый раз обедать с человеком, которого лично не знаю, к вечеру фейсбук сообщает мне, что «вы можете его знать». Большой Брат следит за тобой? Кто ты, брат?

Софья Станевич и Алёна Долецкая, 1956 г.
Не знаю всех особенностей польского характера, но я точно обязана этой своей бабушке за одну загадочную, хотя и простую вещь. Вскоре после моего рождения папе предложили возглавить кафедру детской хирургии в Ленинграде, и родителям пришлось оставить меня в Москве на руках у бабушки. И тут меня накрыла какая-то неведомая и опасная болезнь сердца. Имеющиеся врачи не понимали, что за патология такая, и опустили руки. Бабушка Софья уложила меня в постель на три месяца без разрешения прыгать-бегать-носиться и – чтобы я не порвала на части окружающий мир бешеной детской энергией – легла со мной рядом на всё время, читала книжки и кормила. Вернула меня в строй здоровым ребёнком, дождалась возвращения родителей в Москву и ушла в мир иной. Мне было три года. Мудрая София, жду притока твоей мудрости в мою жизнь.
Если уж заговорили о мудрости, то фамилия Долецкий – это всего лишь придуманный партийный псевдоним моего деда, который на самом деле был Я. Г. Фенигштейн. Полагаю, польский еврей. И вот уже много лет я ворчу, что маловато мне досталось еврейской крови. С цифрами я на «вы», считаю медленно и плохо, пять шагов наперёд просчитываю с трудом, зато компенсирую мужьями, которые почти все евреи.

Александра Даниэль-Бек, 1920 г.

Владимир Даниэль-Бек, 1949 г.
Родители иногда друг друга поддевали. Когда папа в порыве педагогических усилий начинал нам с братом читать нотации, мама, Кира Владимировна Даниэль-Бек, говорила: «Стасик, ну оставь, пожалуйста, этот свой польский гонор». Или когда мы долго и бестолково обсуждали какой-нибудь нелепый вопрос, типа кто будет собирать и натирать лыжи, мама гордо отмалчивалась, и папа ей говорил: «Кирочка, ты не хочешь подать голос из своего замка князей Беков и всё-таки с нами поговорить?»
Мама была не очень похожа на настоящую армянку (ну разве что сильно вьющиеся волосы), внешне она была копией своей мамы Александры Ивановны, которая служила литературным секретарём Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Бабушка была русская, но родом из коми-зырян, с чуть-чуть миндалевидными небольшими глазами. Поставить рядом бабушкин, мамин и мой профиль – почти одно лицо. Я не застала маминых родителей, они умерли очень рано, а я родилась поздно. Мамин отец, Владимир Исаевич Даниэль-Бек был московским юристом, статным мужчиной, с выдающимся носом с горбинкой, чётко очерченным ртом и густыми волосами «соль-с-перцем».
А вот отец деда, мой прадедушка – гордость семьи и не только, – достоин короткого отступления.
Как-то раз, уже в зрелом возрасте, году в 2015-м, я приняла приглашение близкого друга Рубена Варданяна и отправилась в Карабах. Время было уже мирное, Степанакерт превратился в ухоженный светлый город с парками и отелями. В один из дней нашей поездки Рубен устроил большой ужин в знаменитой Шуше, где была одна из самых тяжёлых битв Карабахской войны. В Шуше есть разлом между горами, место невероятной красоты, где можно сидеть часами, смотреть в расщелину и на разлетающиеся горы, покрытые изумрудной зеленью как бархатом, и думать, мечтать, вспоминать. Неподалёку от этого магического места, посреди огромной сосновой рощи, накрыли стол человек на сто, построили сцену, где упоительно пели «Дети Арцаха», ребята от пяти до двадцати лет.

Кира Даниэль-Бек, 1940 г.

Станислав Долецкий, 1985 г.
Блюда на столе описывать – гиблое дело, изойдемся слюной. Домашние сыры всех сортов, баклажановая долма, бозартма, пряные травы и овощи, цыплята… Взрослые беседовали. Когда пели дети, все умолкали и роняли слёзы умиления и снова, прерываясь на короткие, но содержательные тосты, болтали. И тут встала невысокая, очень приятная женщина лет сорока, подняла бокал и сказала: «Вы знаете, у нас сегодня за столом правнучка человека, день рождения которого мы празднуем каждый год в нашей бывшей Императорской военной академии. Даниэль Бек-Пирумян – величайший полководец, человек, благодаря которому мы сохранили Армению. Он поднял народное войско, когда военные сдались, сказав, что мы не выдержим атак турок. Он сказал: «Не быть этому». Сардарапатское сражение никогда не будет забыто, но сегодня важнее, что его правнучка оказалась среди нас». Слова благодарности я произносила едва-едва, не давали слёзы. Оказалось, что эта женщина – заслуженный воин, министр обороны Карабаха.

Даниэль Бек-Пирумян, 1919 г.
Тогда же я узнала, что «бек» означает княжеский титул, приставляемый к имени, которое носили только мужчины княжеских родов в Армении, в Арцахе. Получается, что мама носила мужскую фамилию. Странно, но красиво. Скорее всего, Даниэль имя прадеда, «бек» приставка, а фамилия Пирумян.
Однажды в Париже я зашла на кладбище Пер-Лашез и увидела могилу, на которой было написано: «С. А. Даниэль-Бек-Шукшинский, умер в 1931 году, младший офицер армии, бывший пристав Государственной думы». Подумала: сколько же наших Даниэль-Беков по всему миру?
Буду искать. Главное, чтобы хватило армянского темперамента и русского терпения.
Фирменный шов
(письмо отцу)
Ты сидишь передо мной у своего старинного, немецкой работы бюро с секретными ящичками. Пишешь. Сорокапятилетний, стройный, сногсшибательный. А я, малявка, тебя спрашиваю: «Пап, а как бы ты хотел умереть?» А ты отвечаешь, не отрываясь от бумаг: «Быстро, не больно, в Серебряном Бору». Ты любил туда уезжать на выходные в Дом творчества Большого театра.
Плавал там на байдарке, гулял с друзьями. Ты любил Большой (потому что пел там мальчиком в хоре?), любил театры, консерваторию, знал актёров, музыкантов и со многими дружил.
Прошло лет тридцать с лишним, я уже моталась по миру, делала проекты в Москве, а ты вдруг звонишь мне из загорода и говоришь: «Детка, завтра в Большом зале играет Володя Крайнев. Рахманинов, Шопен. Красота! Давай, не откладывая, быстренько сгоняй на улицу Герцена, зайди к Захарову (Владимир Захаров – тогда всемогущий директор БЗ Консерватории). У него для нас два билета. Мы давно никуда не выбирались вместе».
– Ура, папуль!
Я съездила на Герцена, забрала билеты. Они у меня потом долго лежали в сумочке. Ты умер на следующий день. Быстро. Не больно. В Серебряном Бору. Ровно через десять лет после мамы. День в день.
Давным-давно, когда ты водил меня маленькую в Консерваторию, мы слушали Шопена. Не помню имени пианиста, да и неважно. Он мне тогда ужасно не понравился – монотонно и скучно бил по клавишам. В антракте я начала нудить: «Пап, может, домой, а?» А ты мне: «Деточка, просто он играет Шопена как пионерские марши. Значит, ещё не налюбился, не настрадался».
Я хотела стать врачом-хирургом, как ты и мама. Ты – самый молодой член-корреспондент Академии медицинских наук, знаменитый на весь Советский Союз детский хирург Станислав Долецкий, золотые руки, тысячи спасённых детей, толпы навсегда благодарных родителей, автор десятка книг, первый русский хирург – член английской Королевской академии детских хирургов. Одно твоё прикосновение успокаивало капризных орущих детей.
Недавно один осматривавший меня врач сказал:
– Какой у вас необычный и элегантный шов. Был аппендицит? За границей делали?
– Это мне папа сам сделал.
Он так шёпотом:
– Этого. Не может. Быть. Своих не оперируют.
Когда меня привезли в твою Русаковскую клинику (ныне Свято-Владимирская), сбежались все открыв рты: «Свою будет резать? Родную?» А потом приехала мама. Ты её не пустил в операционную. Но как только заклеил свой фирменный шов пластырем, выдохнул: «Ну, теперь пускайте». Ох, я помню, досталось тебе от мамы. Конечно, сейчас бикини носят уже пониже, так что иногда твой шов виден, но, по-моему, это даже сексуально.
Так вот, хотела стать врачом. Плюнула на свои последние летние школьные каникулы, устроилась нянечкой в отделение, которое ты возглавлял. С твоего, кстати, разрешения! Мыла операционные, палаты, полы и койки, ухаживала за больными. Посидеть на приёме было сплошное удовольствие. Мамаши таяли в твоём присутствии на глазах, как сахарный песок в горячем чае. А дети вообще забывали, что дядя в белом халате – чудище и мучитель. Смеялись беззубыми ртами и сами показывали тебе, где болит.

Станислав Долецкий, 1982 г.
Ну, я и решила самоволкой пойти посмотреть, как ты оперируешь. Ты иногда устраивал показательные операции для аспирантов, которые приезжали из разных медвузов страны. Оперировал мальчика, за которым я в палате ухаживала. Мне, конечно, хотелось знать, как у него все пройдёт. Кажется, там была небольшая опухоль рядом с лёгким. Ты начал оперировать, подробно комментируя каждый свой шаг. «Проходим сюда, разрез сделаем именно здесь, а потом на цыпочках идём ниже, видите?» В каждом движении лёгкость, изящество и безукоризненная точность. Полная концентрация, и никакого ощущения тяжести, страха или напряжения. «Сейчас я вот тут специально делаю небольшой разрез, всё-таки он совсем ещё молодой мальчик, не будем его распахивать, а подберёмся к опухоли слева». Ни одного лишнего слова. Все только по делу.
Хотя на всех были марлевые маски, я знаю: аспиранты и врачи слушали и смотрели открыв рты. В какой-то момент ты поднял глаза, и наши взгляды встретились. Резко переключив интонацию с бархатно-лекторской на железно-командную, говоришь:
– Будьте любезны, покиньте операционную.
Все поворачиваются в мою сторону, я тоже поворачиваюсь, даже не подозревая, что эти слова адресованы мне. Видя это, ты добавляешь:
– Алёна, я обращаюсь к вам.
Вот эти «Алёна» и «к вам» было как скальпелем без наркоза. На ватных ногах выхожу из операционной. Голова пухнет: ты же сам пустил меня к себе в отделение, я здесь с семи утра выполняю самую грязную работу, я же собралась стать хирургом, почему же я не могу посмотреть, как ты оперируешь?! Через час меня находят в отделении: «Станислав Яковлевич вызывает вас к себе».
– Я разрешал тебе присутствовать на операции?
– Мы же, я же…
– Ещё раз задаю тебе вопрос.
– Ну, пап…
– Запомни раз и навсегда: никогда без моего разрешения не смей переступать порог операционной. Это не обсуждается. До свидания.
А вечером вы с мамой на меня налетели: «Ты что?! Какая ещё хирургия? Есть прекрасные офтальмология, косметология». Вы мне долбили весь вечер, что это не женская профессия, а с моими эмоциями и нервами я совсем не подхожу для хирургии. Лишь однажды ты обмолвился, что профессия врача – это ответственность, равной которой нет. Каждый день ты сталкиваешься с ситуациями, где от твоей компетенции зависит человеческая жизнь. И есть только два варианта развития сюжета: или ты будешь до конца дней разбираться со своей виной и собственной совестью, или превратишься в законченного циника. «А я не хочу, деточка, чтобы ты превращалась в циника».
Потом мы ругались. Потом мирились. Потом, как это было принято в нашей семье, собрали семейный совет, куда входили твои ближайшие друзья: Юра Никулин, Витя Монюков, Боря Поюровский, Эдик Радзинский, Володя Высоцкий, Саша Митта. И на повестку дня был вынесен единственный вопрос: «У нас проблема. Алёна хочет идти в медицинский на хирурга, а мы с Кирочкой категорически против». И тут дядя Юра Никулин сказал: «Вы что, дорогие? Ну что вы морочите себе голову? Она же чистый гуманитарий! Вы что, не видите?» И я пошла в МГУ на филологический.
За что бесконечно вам всем благодарна.
Я редко тебя о чем-либо просила, а клянчить подарки было гарантией, что их не получишь никогда. Попрошайничество ты на дух не выносил. Но тут ты поехал в Лондон и привёз мне роликовые коньки, мою мечту. Дело было в сентябре. И ты их прятал у себя в шкафу до самого моего дня рождения, 10 января. А мне так хотелось в Лужниках на них поездить с мальчишками по хорошей осенней погоде. Я же их все равно сразу нашла и четыре месяца слюной исходила. Зачем их было ныкать-то?
Воспитывал ты меня, конечно, в спартанском стиле. Со всех сторон я только и слышала, как Стасик обожает свою дочь, а дома дело обстояло сурово. Андрюша, мой старший брат, положительный, отличник, послушный, молчаливый, – мамин сын. А со мной всё время что-то приключалось. То из пионерлагеря сбежала, то три школьных дневника обнаружилось (один для папы, другой для мамы, третий для реальности, которую нельзя было никому показывать), то мальчики всякие звонят по сто раз в день. В общем, проблемный ребёнок. Я понимаю – со мной, наверное, было нелегко.
Но моя любимая история про твои педагогические усилия – про скрепки. Ты послал меня в канцелярский магазин купить скрепки. В канцелярский так в канцелярский. Тем более по дороге я успеваю заскочить в телефон-автомат позвонить своему мальчику для личного разговора. Потом сломя голову в магазин и домой. Одна нога здесь, другая там. Довольная, вручаю тебе коробку. Ты разворачиваешь бумагу. Замираешь.
– Алёна, что это?
– Как что, пап? Кнопки.
– Тот факт, что ты не в состоянии запомнить поручение отца, свидетельствует только об одном: ты катишься по наклонной плоскости.
Кроме «наклонной плоскости» мне предназначались ещё два пожизненных приговора: «Все это – звенья одной цепи» и «Ты абсолютно потеряла фактор времени». Как бы мне хотелось его снова потерять!
Знаешь, ты задал планку, на которую мы, все Долецкие, равняемся до сих пор. И не на твою хирургическую славу, профессорство и членства. А на остальное – прямая спина, кайф от того, что делаешь, внутренний стержень, порядочность, врождённый стиль, любовь ко всему изящному. Всё, что стало у нас фамильным. Родовым. Кстати, я так никогда и не сменила свою, в смысле твою, фамилию. Хотя возможности были. И не раз!
А с фамилией что вышло. Маму звали Кира Владимировна Даниэль-Бек. Её дедушка, князь Даниэль Бек-Пирумян, герой армянского народа, возглавлял войско во время войны с турками. В Армении его чтут до сих пор, а в Сардарападе висит огромный его портрет и сабля вся в драгоценных каменьях. Мне очень нравилась мамина фамилия и особенно её подпись: такое плотное Даниэль и выскакивающее элегантным зигзагом Бек. Мне исполнилось шестнадцать, и мы с мамой пошли оформлять мне паспорт. Как всегда, всё самое важное – с мамой, похожей на Грету Гарбо, умной, как Мария Кюри, и застенчивой, как я даже не знаю кто.
Паспортистка, забитая скучной работой, устало спрашивает:
– Так, девушка-а-а-а-ай, какую вы берете фамилию? Матери? Отца?
– Я беру мамину, Даниэль-Бек.
– Ага. А как она у нас тут пишется-то?
Берёт очки.
– В одно слово?
Тут мама мне ошарашенно: «Что ты делаешь?! Ни в коем случае! В этой фамилии все делают минимум по четыре ошибки. Вместо «э» пишут «е», чёрточку забывают, «б» пишут с маленькой. Умоляю, зачем тебе это надо? Даже не думай – ещё не хватало мучиться всю жизнь, как мне».
Паспортистка, накаляясь и теряя терпение, слушает наши препирательства у её окошка. И тут мама предъявляет последний коронный аргумент:
– И вообще. Ты подумала, что мы скажем папе?
Решение было принято.
Вместе с твоей фамилией мне достался в наследство твой низкий болевой порог: все женщины своими ногами из врачебных кабинетов выходят, а я – чуть что – падаю в обморок, и потом меня долго откачивают. А ведь кто поверит, что такая чувствительная! И этот же болевой порог в душе. От чужой непорядочности, подлости, толстокожести, лицемерия, вранья. Хотя, пап, я не жалуюсь – энергии хватает, замыслов и планов навалом, жизнь интересная невероятно. Вот только всё никак не брошу курить.
Помнишь, как ты меня учил курить в пятнадцать лет?
Мама курила. Курила шикарно, как всё, что она делала. Без позы – ни лишнего жеста, ни лишних слов. Всё значительно и красиво: профиль, взгляд, рука с дымящейся папиросой «Беломорканал». Конечно, мне хотелось подражать ей во всём, и я закурила. Ты ничего не замечал. Но однажды ты призвал меня к себе в кабинет и сказал:
– Деточка, у нашей мамы, лучшей мамочки на свете, есть одна плохая черта – она курит. И я очень не хочу, чтобы эту привычку ты у неё переняла. И вот какое я принял решение. Сейчас я возьму мамины папиросы, и мы вместе просто попробуем, ты поймёшь, какая это гадость, и на всю жизнь эту тему закроем.
Тогда ты закурил первым. Ужасно смешно, как это делают некурящие люди, неправильно зажигая тут же гаснущие спички, обжигаясь пламенем. Наконец папироса задымилась, ты затянулся для правильности примера и начал страшно кашлять. До слёз!
– Боже, папочка, зачем?
– Нет, ты должна попробовать.
Я сдаюсь, затягиваюсь, выдыхаю дым. Без кашля и слёз, а главное – совершенно легально.
Ты с удивлением:
– Ну как?
– Да, пап, противно. Я всё поняла – это действительно очень плохая привычка.
И на этом мы тему закрыли на ближайшие лет десять.
К моим возлюбленным и мужьям, будем честны, ты не испытывал особой приязни. На первое бракосочетание ты и вовсе не собирался идти, пока тебя не устыдили Никулины. Так исторически сложилось, что почти все мои мужья были евреями. «Деточка, у тебя какая-то тяжёлая форма юдофилии», – говорил ты каждый раз, когда я порывалась представить тебе своего нового избранника. На это я тебе неизменно напоминала, что настоящая фамилия моего дедушки, твоего папы, была Фенигштейн. «Он был немец!» – слышала я один и тот же ответ. Ну да, конечно, щас!
Когда происходили неизбежные церемонии знакомства с моими поклонниками, ты был напряжён и рассеянно снисходителен. Ты всё считал меня своей маленькой деточкой, которая в очередной раз шалит и за которую ты несёшь ответственность. Я знаю, так бывает у сильных отцов, но в какой-то момент эта твоя ответственность меня стала давить. И я пошла на разговор, один на один.
«Папа, я давно уехала из вашего дома и живу своей жизнью, в своей квартире, на деньги, которые сама зарабатываю, с человеком, которого люблю. Пойми это и не обижайся, но так больше нельзя». Там и покруче были выражения, конечно, но, поверь, я тогда старалась выбирать слова, чтобы не ранить тебя слишком тяжело. Мы же оба не выносим боли! Ты молча выслушал и не захотел больше выяснять отношения и говорить что-то в своё оправдание. Всё было и так понятно: той Алёны, которая была твоей «деточкой», больше не существовало. Перед тобой сидела двадцатипятилетняя женщина со своей личной жизнью и своим характером. И просила об одном: отпустить её.
К этому времени, невзирая на написание кандидатской диссертации и переводы английской литературы, у меня вдруг проснулся кулинарный талант, которым наша обожаемая мама не была наделена совсем. Ты был рад этому моему дару и взял за привычку появляться у меня дома как снег на голову. Конечно, как человек безупречно воспитанный, ты предварительно звонил:
– Детуль, у меня есть немного времени перед учёным советом. Что у тебя сегодня на обед?
– Рулет из говядины с лисичками.
– А супчик?
– Куриный бульон с бородинскими тостиками.
– Прекрасно, буду через полчаса.
В этот день я только-только прибежала со своей лекции. И думаю, дай выкурю сигаретку до твоего прихода. Ты же не предполагал, что я курю. Я скрывала от тебя это много лет. И тут раздался звонок в дверь. Я подумала, что для тебя рано, что это, наверное, курьер. Открываю дверь, а это ты стоишь с огромным ящиком мандаринов от благодарных пациентов из Грузии. Судорожно бросаю сигарету куда-то в глубь квартиры, не думая, что загорится ковёр или вспыхнет библиотека. Ты всё заметил. И сухо так:
– Добрый день!
А потом, без паузы:
– Всего доброго.
Шваркнул дверью перед моим носом и с этими же мандаринами гордо удалился. Хоть бы бросил их мне под ноги, что ли?! Нет, так с ними и ушёл. Очень в твоём стиле.
Ты часто ездил на конгрессы и симпозиумы в разные столицы мира. И, похоже, тебе всегда хватало этих трёх-пяти-семи командировочных дней. Через неделю после возвращения ты уже натягивал на штатив экран, заряжал проектор, и начиналось слайд-шоу, на которое собирались все друзья. И эти твои рассказы: где был, что видел, с кем встречался, что ели и вообще как всё было. Мы, конечно, спрашивали про заграничную медицину: а какие у них операционные, а персонал, а аппаратура? Эти вопросы повергали тебя в уныние, повисали неловкие паузы: «Знаете, родные, мы здесь живём в первобытно-общинном строе». При этом ты страдал не за себя! Тебе просто было больно и стыдно за всю советскую систему здравоохранения, за науку. Тут же ты добавлял: «Но, когда включаются наши руки, они умолкают». Имея в виду, конечно, не только руки, но и мозги. Потому что хирургия – это не только «искусство кройки и шитья», но и стратегия и тактика, знания и умение просчитать многое наперёд.
Если у нас дома угощали твоими «слайд-шоу», то Никулины, возвращаясь с гастролей, устраивали огромные вкуснейшие столы, ставили привезённую музыку (ух, этот первый Jesus Christ Superstar и The Beatles White Album в наушниках, которые мы рвали друг у друга из рук!). Помнишь вечер после их турне по Австралии? И мои первые джинсы Levi’s, заботливо подобранные для меня тётей Таней Никулиной, и длинные хипповые юбки, и уморительные рассказы, и хохот, такой, что до слёз, и кто-то не выдерживал и сползал со стула на пол. И во всём этом не было ни капли зависти или страдания, что мы тут, а не там , что у кого-то всё, а у нас ничего. Не было никакого ощущения изолированности или провинциальности, хотя по западным стандартам мы жили, наверное, довольно скромно.
Алёна Долецкая
Не жизнь, а сказка
«Расскажи, ну расскажи ещё какую-нибудь историю», - бесконечно просил Артём Долецкий, мой племянник.
Ему посвящаю эту книжку.
«Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное».
Далай лама
А. Долецкая, 1973 г.
Объяснительная записка
Никакую книгу я писать не собиралась. Ни художественную, ни мемуарную, ни публицистическую. Кто я такая? Девочка из интеллигентной московской семьи, с классическим университетским образованием и недурным воспитанием. Довольно везучая. Успеха не ждала, просто на него работала. И хотя трудилась всё больше в высших, так сказать, эшелонах культуры и бизнеса, уверяю вас, не все мы, глянцевые девочки, какаем розами.
У меня есть любимое занятие: сидеть на веранде с друзьями и «травить байки». Летом там тенисто и прохладно, падают шишки с сосен, белки хрустят сухарями и семечками, сойки суетятся у кормушек. Мы гоняем чёрные, зелёные и белые чаи с моим клубничным или земляничным вареньем, а иногда и с чем покрепче, вспоминаем истории из жизни. Мои истории все очень любят. Обязательно кто-то говорит: «Алён, ну расскажи ту историю, ну ещё разочек». У друзей и родных есть свои любимые байки. Иногда они перебивают: «Нет-нет-нет, он сначала вошёл, а потом уже…» Они исправляют цвет волос, который был у кого-то из персонажей, год события, название духов, детали нижнего белья. «Слушай, сама расскажи, ты уже лучше эту историю знаешь, чем я», - говорю я в ответ. Не проходит номер.
Эти сказки-байки благодаря моим друзьям обросли первородными запахами и оттенками. Ритуал стал частью дачной магии.
Неожиданно я поняла, что этих историй собралось много, а главное - что у меня появилась возможность не рассказывать в сорок пятый раз одну и ту же сказку-байку. И получше вспомнить полузабытые. Совсем не всегда разухабисто смешные, иногда страшные и грустные, но зато настоящие. Я решила их записать.
Даты - моё слабое место, так что хроники века не ждите.
В народных сказках, которые я читаю до сих пор, помимо разнообразной мудрости, всегда есть превращения и преображения. Сидела лягушкой в углу, ударилась оземь и обернулась Василисой Премудрой. Тыква превращается в карету, чудище - в принца. Вот и я вам расскажу про свои превращения, иногда волшебные, иногда не очень. Но зато никакой лжи, никаких намёков. Всё по правде.
Не бойтесь, не всю правду, конечно. Да и не всё вспомнила. Сказки ведь чем хороши? Превращения бесконечны, и сказка рождает сказку.
Так что, кто знает, может, и будет продолжение. А пока - поехали.
Раз. Два. Три.
Огненный коктейль
Иду я с друзьями на антикварный рынок в Измайлово, одета ничего особенного, в уггах или кроссовках, джинсы, куртка-пальто, в чем на рынок-то ездить? И только вопьюсь глазами в старинные русские рюмочки резного стекла, продавцы мне тут же:
Please, please, ten dollars, ten dollars only!
А что это вы по-английски? Я русская, и не парьте мне ten dollars, давайте на рубли и пополам.
Ой, а я думал иностранка…
С чего бы я иностранка-то? Родилась и выросла в Москве, больше чем на месяц вообще из России не отлучалась. Но ласкаю себя мыслью, а может, тут всё не так просто? Может, там, как у Де Костера, «Пепел Клааса стучит в моем сердце?» Может, моя английская прабабушка Хедвиг Хайтон сказать что хочет?
С Хедвиг какая история была. Живёт она себе поживает в 1900-х годах то ли в Сассексе, то ли в Саффолке со своим мужем, лордом Хайтоном. Рожает леди Хедвиг Хайтон двоих детей, ухаживает за розами, следит за регулярным цветением трёхметровых рододендронов и принимает вечером друзей мужа. Заезжает к ним как-то погостить коллега по бизнесу лорда Хайтона, успешный предприниматель-золотодобытчик, поляк дворянских кровей Станислав Станевич. Как говорит семейное предание, красоты, обаяния, яркости и безбашенности необыкновенной… И - влюбляется в прабабушку, а она, ох, - в него. Он взял и увёз Хедвиг от лорда.
По моим наблюдениям, лучшие знакомства и встречи происходят абсолютно неожиданно, когда ты ничего заранее не предвкушаешь, не строишь планов и не надеешься.. Так бывает не только с людьми, но и с книгами. Так произошло у меня и с книгой Долецкой, об авторе которой до прочтения "знать не знала и ведать не ведала", в отличие от нынешнего главреда Вог. Впрочем, и Вог никогда не читала- слишком малодоступно для моего понимания, в отличие от остального глянца- Космо, Мэри Клер, Элль..
А тут вдруг открыла книгу и... не могла оторваться. Впечатление, что в жизни автора было многое из того, о чем я только мечтала- красота, толпы поклонников, любовь мужчин, неформальное общение со звездами(прежде всего для меня - с Пугачевой), путешествия, много родственнников и толпы друзей, экстраверсия и авантюризм, а самое главное- много юмора, легкости и бескрайнего оптимизма..(кто подскажет, как называется такой человек в терминах психологии? Не альтер-эго, не супер-эго, а?...)
Текст написан так, что многие сцены врезаются в память, как например, с ковром роз на лестнице института, где работала ее мать, метанием полотенец в "провинициальную истеричку" Аллу Борисовну; полуобнаженной Земфирой на съемках журнала; неожиданно интеллегентном Билане, скучающем о тишине; побеге от соперницы-проститутки и развеивании праха любимой собаки над океаном. Конечно, очень интересно было читать и про жизнь в "колхозе-гиганте " "короля-солнце" Юрия Никулина.
Есть у нее и о грустном, но гораздо меньше, и без озлобления на мир и судьбу.
Что не понравилось? Не понравилось, что подробный рассказ о лишении девственности(забавный, безусловно) сопровождается фото героя с подписью его фамилии(для меня это слишком откровенно). Странным показался и вопрос в тексте, почему мама не ушла к человеку, которого любила, из семьи с отцом героини.(Ну вот просто странно, да и тоже за гранью интимности).Хотя вполне себе представляю, что книга эта-продукт коллективного творчества, и как редакторы-издатели наверняка просили автора о чем-нибудь "погорячее".Но.. по-моему, всему есть предел..
"Любая национальная кухня - как тембр голоса, который ты один раз слышишь и после этого не забываешь. Или как запах: не ошибёшься, что ты пришёл ужинать в грузинский дом. У тайцев за столом будут щекотать нос кокосовое молоко, лимонная трава и лемонграсс, листья кафира, (двоюродный брат лаврового листа благородных кровей), имбиря и лайма. Каждый раз, когда я готовлю тайскую еду, пара консервативных друзей обязательно скажет: «У нас сегодня опять духи будут подавать?Зайдёшь к японцам - на голову сваливается тишина, уравновешенность, порода, и всё на цыпочках и в белых носочках. Вкус тонок, нож опасно остр, десерт едва сладок и свеж. Нация, которая восхищается трещинками на чашке прапрадедушки, где эстетизм - главный тиран, повелитель и монстр, стремится к бесконечной гармонии.
А каковы индийцы? Это сплошное колдовство. Один и тот же порошок карри любой остроты каждая семья толчёт по-своему. А этот хлеб нан! Нан с чесноком, нан с топлёным маслом, нан с кориандром, нан с кунжутом, нан на масле, нан без масла. Самые банальные цветная капуста и картошка, морковь и зелёный горошек чудесным образом превращаются в тягучее пряное рагу пав бхаджи. Хоть ложкой ешь, хоть на тот же хлеб. Ну и, конечно, эти кубики из филе курочки - чикен-тикка - всегда осыпанная пурпурного цвета специей - гаром горят на тарелке. Все вроде просто, но секрет массивного выделения слюны так и остаётся секретом.
Когда заныриваешь в любую национальную кухню - будто улетаешь на другую планету."
"И после пятидесяти я по-прежнему люблю субботний завтрак в стиле «Утро. Секс. Эклеры». Потому что нет у любви возраста, дат и цифр."
"На мой полувековой день рождения близкий друг сказал: «Наступает самое интересное. Теперь сочиняй сценарий второй половины жизни. Это настоящее творчество".
"И самое главное, понять, что не надо себя жалеть. Вопреки глянцевым заветам «любить себя» и бесконечно себя холить, как породистую лошадь, очень полезно работать до одури, ставить перед собой амбициозные, порой безумные задачи и справляться как минимум с некоторыми из них. Не бояться провалов. Сохранять молодые желания. Учить, не впадая в менторство, и учиться, не впадая в детство.Гореть, светить и освещать до последней капли воска."
По следам новой книжки Алены Долецкой «Не жизнь, а сказка», Яна Зубцова выясняет у бывшего шефа, зачем та ходит зимой без колготок, почему она ее уволила, и что таки мы думаем за феминизм. В общем, то, что в книжку не вошло.
— Все годы работы в Vogue меня страшно волновал вопрос — на хрена ходить зимой в лодочках на босу ногу? Что, понты дороже денег?
— Ты знаешь, этим вопросом задавался и мой папа, и мои мужья. Вообще, это многих почему-то занимает. Но, видишь ли, Россия хороша тем, что дома у нас зимой отапливаются. А ходить со сменкой неудобно. Вот я сейчас пойду на встречу в Третьяковку. Это будет долгая история — с документами, с бумагами, с разговорами. Ну, какие угги? Какие боты? Какие сапоги? Находиться в помещении в зимней обуви мои ступни не любят. Это первое. Второе — тебе ли, руководителю Beauty Insider, не знать, что нет ничего красивее обнаженной женской щиколотки? Третье — я себя очень хорошо ощущаю в туфельках…

1/10 часть обувного гардероба Алены Долецкой. «Да, guilty pleasure, даже отмазываться не буду».
— … я, положим, тоже неплохо себя ощущаю в туфельках. Но сижу перед вами, и мне опять стыдно за свои прозрачные носки. Как будто не было этих 10 лет вне Vogue.
— А что с твоими носками? Вроде не порванные?
— Да вроде нет. Но вы же без носков! А я, как лох, в носках.
— Ну, я вообще сейчас в кроссовках. Спасибо новым технологиям, в кроссах теперь такие продвинутые стельки, ноги не потеют. Но ты не парься. Мне просто приятно ходить босиком. Я чувствую ступню, чувствую свой шаг, мне это нравится. В те времена, когда мы работали в Vogue, — да, это были не кроссы. В основном — Manolo, Prada, Givenchy и Gianvito Rossi, которые делали идеально подходящую мне колодку. А что касается чулочно-носочных изделий, — не выношу, когда они обладают хоть малейшим блеском. Они должны быть абсолютно матовые. Я столько раз ошибалась — на упаковке каких-нибудь Falke написано 100% matt, покупаешь, надеваешь… а они, суки, блестят! И меня это бесит. К тому же, тепла они особого не создают.
— Да ладно, не создают. Наденьте — снимите — почувствуйте разницу.
— Вoт у & Other Stories есть такие, совсем коротенькие, похожие на подследники, их я люблю, только они все время исчезают из продажи. Пару недель назад, когда температура понизилась до -11, они б не помешали: остановилась поговорить со знакомой и тут же ощутила, что, кажется, стою на снегу голыми ногами. Но надо понимать: я автомобильный человек. Выскочила, пробежала пол-Толмачевского и Лаврушинский, — нормально. И опять же, тонус. Если б я перемещалась пешком — надела б угги, как миленькая. Так что сиди в своих носочках, не переживай.
— Ок, спасибо.
— Хотя, знаешь, если уж совсем по честноку, — да, иногда понты дороже денег.

Чемодан Globe Trotter, последняя коллекция, вдохновленная «Убийством в Восточном экспрессе». Объездил с Аленой пока не много стран, но любим за то, что в нем идеально помещаются три пары обуви и два платья. И да, он cabin size
— Ну, наконец-то, вырвала признание. Ладно, перейдем к менее насущным вопросам. Вот, например, феминизм. Про ЗОЖ в вашей книжке — и особенно в интервью на Lenta.ru — все подробно сказано. Мне, как тоже дочери врачей, ваша позиция близка. Но за феминизм я не нашла ни слова. Как у вас с ним?
— Как-то мне с ним… не до конца понятно. По-моему, это слово за последние два-три года сменило ориентацию. Мы все читали The world according to Garp («Мир глазами Гарпа» Джона Ирвинга) про первых феминисток, все восхищались, и все было вроде ясно. А сейчас это вопрос дико сложный. Каждый вкладывает в слово «феминизм» свой смысл, и я не знаю, какой, например, вкладываешь ты. То, что у женщины есть все основания получать равную с мужчинами зарплату и занимать те же позиции — бесспорно, да. То, что это в реальности не всегда происходит — опять да. Позавчера говорила со своей подругой Ингеборгой Дапкунайте, которая в недавнем интервью сказала: «Ну, ребята, давайте по-честному. Посмотрите на количество мужских ролей в кино — и на количество женских. Взгляните на количество мужчин-сценаристов и женщин-сценаристов, мужчин-режиссеров и женщин-режиссеров. А дальше посмотрите на оплату этого труда». Это все так, и тут я за феминизм. Но если говорить об абсолютном равенстве, надо ж понимать, что — да, мы равные, только раз в месяц нас, девочек, вышибает на пять дней менструацией, а еще у нас случаются в разных количествах беременности, а потом роды, и кто грудью кормил, те жалуются, что год ничего не соображали — мозги залиты молоком. Так что есть нюансы.

С ЗОЖ у Алены отношения не очень, общеизвестный факт. Впрочем, у меня — еще более не очень. И мне даже приятно, что в ее лице я нахожу поддержку многим собственным грехам
— Вы лично с дискриминацией по половому признаку сталкивались?
— Никогда в жизни. Я шла по своим работам — преподавание, академическая деятельность, пиар и арт-маркетинг, журналистика — и не задумывалась, кто мой руководитель, мужчина или женщина. Мне было важнее, что я делаю и как. И я не знаю, как отношусь ко всякого рода протестным движениям. Точнее, я часто интуитивно их опасаюсь. Про это на портале Interview хорошо написал Леша Зимин: «Есть люди, которым предназначено выступать в жанре «против». У них это отлично получается. А есть люди, которым органичнее выступать в жанре «за». По всей вероятности, мне больше удается жанр «за». Я за нас, за девочек — любого порву. Но против чего-то, неважно, чего — мне ходить сложно. И я не думаю, что с феминизмом все так однозначно. Например, я не стану оголтело протестовать против того, что женщин-пилотов меньше, чем пилотов-мужчин, и говорить «а давайте-ка сейчас все быстренько выровняем!» Потому что подстраивать графики взлетов и посадок под женский цикл — ну нет, нет. С другой стороны, мне не нравится, что женщин-мэров городов гораздо меньше, чем мужчин. Женщина, с ее инстинктом заботиться об очаге, обустроит город не хуже, а, может быть, лучше. Она его обустроит как дом, и в нем будет комфортно жить. Лучшие продавцы недвижимости — тоже женщины. По той же причине. А что касается полетов, — право выучиться на летчика должно быть у всех. А потом пусть она продемонстрирует блистательные результаты и докажет, что умеет так справляться со своим циклом, что это не станет проблемой экипажа и пассажиров. Вообще, есть в нынешней разновидности феминизма какая-то обратная предвзятость: женщина всегда лучше. Нет, не всегда. Есть сферы, где она лучше. А в других областях у нее должны быть равные права с мужчиной. Что не означает, что она автоматически будет лучше мужчины потому, что женщина. Иногда ей придется доказывать, что она не хуже. И это, наверное, нормально.
— Мне не показалось? Вы сказали «наверное»? Вы в чем-то сомневаетесь? Я была уверена, что вы не умеете сомневаться. В книге я тоже не услышала ваших сомнений. Лидер, руководитель — он не должен говорить «Я не знаю»?
— Я как раз человек, часто сомневающийся. С одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. То ли направо, то ли налево. Черное? А может, лучше черное с белым? Как будто я не Козерог, а какие-то Весы. Но на работе руководитель потому и руководитель, он так называется и получает более высокую зарплату, — что говорит: «мы посоветовались, и я решила». Без сомнений.
— Берет на себя ответственность?
— Экзектли. И за эту ответственность мы получаем цветочки, подарочки, сувенирчики и прочую хрень. Но мы также получаем невероятное чувство стыда в ситуации, когда твои редакторы накосячили и вместо «крем-пудра» написали «жидкий тональный». И дальше рекламодатели вынимают из тебя двенадцатиперстную кишку и наматывают ее на твой же лоб: «Как вы могли?! Вы опозорили наш бренд, вы опозорили свой бренд, вы опозорили планету!» И ты сидишь,терпишь этот говнопоток, и говоришь: «Простите! Да, да, мы действительно, как мы могли, ну конечно же, это жидкий тональный!» И в тот момент, когда ты готов принимать на себя огонь, не сливая своих ребят в унитаз — ты становишься руководителем. Как бы подчиненные себя ни вели, у них есть ты. В том числе, для защиты. А с другой стороны — чтобы принимать решения. Они трудятся, складывают, перекладывают, придумывают, перепридумывают. А ты послушала и говоришь — «Дорогой, все круто, только давай мы сейчас под формат проработаем эту твою гениальную идею? Здесь ушьем, здесь подрежем. И тогда получится». А если руководитель чешет репу и говорит «Ну не знааааю…» — все будут думать до скончания веков. А продукт — журнал Vogue, или твой сайт, или любой другой — он должен идти, идти и идти. Да, не без осечек. Не без ошибок. Но идти вперед.

Самое удивительное в этой грамоте не то, что Алена выиграла пионерское многоборье, а то, что кто-то когда-то звал ее Леной
— Про ошибки я тоже хотела спросить. Все обсуждают главу книжки, где рассказано про ваше увольнение из Vogue. Некоторые вообще начинают читать именно с нее. Описано блистательно и честно: вот — ситуация, вот — ваша реакция и оценка. Но нет анализа собственных ошибок. Хотя в любой аварии виноваты две стороны. Да, он тебя подрезал. Но что же ты, мудак, не затормозил?! В книге этого не прозвучало.
— Прозвучало! Я увела это в метафору, и, наверное, она не до конца считалась. На самом деле мой принцип жизни — It takes two to tango. Для танго нужны двое. Кажется, это сказал Рейган, когда приехал поговорить с Горбачевым? Для аварии тоже нужны двое. Я стрекозила, как подорванная. Я была упоена тем, что мы делаем, мне казалось, мы самые крутые, и надо только докручивать эту крутизну еще и еще. Безоглядная пахота — ну, ты помнишь — и безоглядное упоение. Но я забыла великую фразу: «Осторожно, господа!» Нельзя так беспечно относиться к себе, когда ты работаешь в большой корпорации. Почему я с таким счастьем сейчас дышу? Потому что я вне ее. Мне не надо каждый день качать эту мышцу. Но это сейчас. А когда ты in, ты обязан тренировать напряжометр. Я не дотренировала. И по линии корпоративного боя — проиграла.

Матрешка, стоящая в углу на подоконнике — одна из тех, что были созданы лучшими дизайнерами к 10-летию русского Vogue. Она была продана на благотворительном аукционе, который устраивала Ирина Кудрина. Матрешку купил бизнесмен Шалва Бреус — и подарил ее Алене
— Кто-то сейчас говорит, что ваш Vogue был слишком многокультурным и слишком маломодным. Кто-то и тогда ставил вам в пример Harper’s Bazaar Шахри Амирхановой, которая разговаривала с it-girls как it-girl, и собрала на этой поляне свои дивиденды.
— Такие разговоры были. Я их слышала и слушала. Я не была против большей young-hot-sexy-фикации. Главное слово, которое нам тогда спустили сверху, наряду с образцом для подражания в виде Harper’s — be commercial. Надо делать более коммерческий продукт. И мы сидели, думали, решали: да, вот девочки любят так, и давайте добавим еще страниц с вещами в обтравке, а если вы подскажете, что именно в нашем журнале warm, a не hot — мы повысим температуру нагрева. До какого-то уровня повысили. Но, видимо, не до искомого. Ну и в итоге — во всем глянце сейчас мы имеем диалог двух пресс-релизов. Эти журналы полезны для издателей, но совершенно не нужны людям.

У книжки «Не жизнь, а сказка» скоро будет аудиоверсия. Особая. Алена читает свои сказочки не в полной тишине, а при активном участии слушателей. Если купите — знайте: третий сдержанный хрюк на пятом абзаце четвертой сказки — мой.
— Глава об увольнении заканчивается фразой: «И я полетела дальше». Вы реально летаете, я видела это в Астане (мы встретились случайно на , прим. Ya-z-va). Зашкаливающий уровень драйва в каждом взгляде, жесте, вопросе. Где вы берете силы летать?

«Картинку снял питерский фотограф Федя Битков. Очень крутой. Спустя время на выставке Нины Гомиашвили увидела фото Мерилин Монро, сделанное в год моего рождения. Купила, принесла домой — осознала, насколько схожи у нас позы. Даже курим — обе. А настроение — совершенно разное».
— Драйв, Яна, у всех разный. У меня масса друзей — сдержанных, не крикливых, даже флегматичных. Но их внутренний драйв меня поражает и заряжает. Так что давай разберемся, что такое драйв. Профессиональный драйв, на самом деле, просто высочайшая мотивация что-то делать очень хорошо. Как только ты понимаешь, что она куда-то делась, нужно уходить. Если сам не понимаешь, или тебе страшно понять — пусть это сделает за тебя руководитель. Ну, пропал у человека огонь, ну, не стои т у него. Он пишет истории, делает съемки, делает верстку — все плохо, плоско, вяло. Рисерча нет, вкус пропал. Устал? Отработался материал? Однажды мой дизайнер написала заявление об уходе. Я спрашиваю — в чем дело? Перегрузок нет, авралов нет, все, вроде, в порядке. Она говорит: «Знаешь, я больше не могу отличить красивое от некрасивого». Для дизайнера это крышка. Я подписала заявление, и она пошла перезаряжаться. Ты либо хочешь, алчешь и знаешь, как сделать — либо ты не хочешь, не алчешь, и потому не знаешь, как. Тогда собирай манатки и езжай промывать мозг или кишечник. Это называется «психогигиена».

«Чудесная книжка. Я скоро за нее сяду. Засада в том, что заниматься по ней надо ежедневно, хотя бы на 5 минут».
— А можно научиться поддерживать этот драйв усилием воли? Прочитать умную книжку «Как перестать беспокоиться и начать летать» и воспарить? В каждом книжном отдел How To завален макулатурой с лайфхаками. Удивительно, что человечество еще ходит по тротуарам, а не парит в небе.
— Есть лайфхаки — и лайфхаки, советы — и советы, есть, как ее там зовут, Маринина, а есть Акунин. Кто-то Набокова читает, кто-то — Бокова. Я не отрицаю жанр How To полностью. Книжка, которая сейчас у меня скачана на айпад — Свен Бринкман, «Конец эпохи self-help» . Отличная. У кого вообще училась я? В первую очередь — у родителей, с руки. Метод обучения, в который я больше всего верю. Родители просто ходили туда-сюда, а я соображала: «А! Раз так, это хорошо. А этак — что-то не очень». Поэтому я так часто в книжке повторяю — мне невероятно повезло с родителями. Тем, кому повезло меньше, я сочувствую и готова подставить им какой угодно орган, хоть плечо, хоть грудь — прислоняйтесь. Чем смогу, помогу.

Из последних прочитанных книжек — Элизабет Барийе, об отношениях Ахматовой и Модильяни. «Купила в Питере. Не лучшая книга — написана с невыносимо избыточной долей авторской фантазии».
Когда не к кому прислониться — начинаешь искать лайфхаки. И тут можно попасть в ловушку. Ловушка пошлости. Банальности. Или просто совет, который не соответствует твоей сути. Где искать помощи? В хорошей литературе или в достойном кино. Для меня книжки — собеседники, друзья, общество избранных, до которых хочешь дотянуться, пусть даже встав на цыпочки. Читаешь Мураками — и да, конечно, он тебя увлекает, он тебя смешит, но на поворотах думаешь — ой, я бы тут, конечно, так не смогла. С тем же чувством читаешь письма Сенеки Луцилию. Замени вокабуляр, измени «гладиаторов» на «воинов», забудь про век — и вот она, сегодняшняя арена жизни. У нас все те же императоры, все те же гладиаторы, все то же пресмыкание перед одними и попрание других. Сенека просто об этом пишет Луцилию, который, подозреваю, открывал каждое письмо и учил его наизусть. Понимаешь?
— Про Сенеку и Мураками понимаю. Но про живых учителей, кроме родителей, хотелось бы побольше услышать.
— Еще были друзья родителей. Вообще, по моим наблюдениям, родительских друзей дети часто слушают больше, чем собственных мать с отцом. Садился, например, Володя Высоцкий поговорить с моим папой. О чем — я не очень точно ловила, слишком мало мне было лет. Но я чувствовала динамику разговора. Они вдруг начинали спорить из-за поэзии — и я думала: «Хм! Оказывается, необязательно любить Ахматову? Или Некрасова? Значит, они разные, эти писатели, о которых все говорят с придыханием? Значит, можно иметь и другое мнение?» И эта крошечная детская мысль у тебя семечком прорастает. Так что друзья моих родителей — вторая группа моих «инфлюенсеров», как это теперь называется. Какая-то инфлюэнца в мире творится, тебе не кажется? А в университете меня выковывала филфаковская профессура, про это в книжке есть.
— А во времена Vogue — у кого вы учились с профессиональной точки зрения? Ведь первых редакторов российского глянца находили не пойми как, и ни у кого из вас не было представления, что такое этот самый глянец, как должен функционировать журнал, и какие у него цели, кроме как объяснить, почему майка с крокодильчиком стоит 200 долларов, а майка без крокодильчика — 20. У тех, кто пришел за вами, есть вы — как образец для подражания или отрицания. А у вас образцов не было.
— Да, не было. У меня вообще был другой бэкграунд — журналистский и продюсерский опыт на Би-Би-Си, художественные выставки в Британском совете, подготовка каталогов по искусству, филфак, любовь к слову. Визуальная культура, печатная культура, продюсерская культура — все удачно сложилось. А дальше — gap, зазор, пропасть: как, собственно, делается глянцевая журналистика? Я выбила у тогдашнего начальника Бернда Рунге позволение поехать в Лондон и прошла интенсивный курс British School of Journalism Барбары Нордон. Она объясняла, как лучше повернуть материал, какие заголовки больше цепляют, как написать интро. Блистательный курс. Дальше — практика.

«Мы с подругой гуляли по Тоскане. Видим — сидят в ряд 9 мужиков, все как на подбор. Пришлось разбавить. Подруга щелкнула. Чем тебе не реклама Dolce & Gabbana?»
— Вы когда-нибудь задавались вопросом, что общего у успешных людей?
— Что ты вкладываешь в понятие «успешный человек»? Чем успех будем мерить?
— Успех в данном случае — полная реализация задуманного и вознаграждение. И материальное вознаграждение, и духовное, то есть — наличие некоего авторитета.
— Окей. Успешные люди просто очень любят делать то, что делают. А все, что ты перечисляешь — следствие этого. Ты придумал, реализовал, родил продукт — неважно, книга это, спектакль или уютный двор — и он удался. В него поверили. И ты автоматически приобретаешь тот самый авторитет и влияние. Но вообще, мне кажется, понятие «успех» переоценено. Особенно сегодня, когда люди, у которых полмиллиона фолловеров в Instagram, считаются успешными персонажами. Как долго просуществует такой критерий успеха как тысяча и один лайк — не знаю. Но пока работает. И это особенно интересно, учитывая, что мир Insta стерильный, в нем нет болезненных падений, отчаяния и всего того, что делает успех настоящим и подлинным.
— Если мы заговорили о падениях и отчаянии. Как научиться держать лицо? Я видела вас в непростых ситуациях. Многие видели еще в более тяжелых. Но вы находили силы улыбаться или, по крайней мере, не рыдать. Меня вот когда размазывает — видно все.
— Знаешь, мне кажется, что у меня тоже видно все. Хотя умение собираться — снова семейная школа. Мама могла прийти домой усталая и раздраженная. И папа ей говорил — «Давай-ка приведи себя в порядок и войди с улыбкой. Ты не имеешь права унижаться до плохого настроения». Мне это казалось невероятно черствым — как он мог?! Это же жестоко! У нее же наверняка на работе что-то случилось! Потом, медленно, я начала понимать, что он имел в виду. Семья — аналог социума. Она объединяет нескольких людей. И не все готовы — и не все могут — выдержать твое сиюминутное проблемное состояние. К этому надо относиться бережно, иначе в доме поселяются вампиры, которые перепиливают остальных: у них все плохо, все не сложилось, а ты давай решай. И вот это «приведи себя в порядок и войди с улыбкой» — если хочешь, некая культура поведения.
Когда я выросла, то была удивлена, обнаружив, как часто и с каким упоением люди говорят про свои болезни. «Ой, у меня вот там болит, а у меня еще хуже, а ты чем лечишь, а я вот этим, а помогает, да если бы». Я слушала, и мне было неловко. Поддержка, — да, бывает необходима. Но для этого есть единственно правильные моменты и единственно правильные люди. Ты со своей болью можешь прийти к конкретному человеку рыдать у него на плече, и это нормально. Но устраивать сеансы эксгибиционизма — нет.
— Говорить, что тебе плохо — табу?
— Не табу. Но — не во всеуслышание, не в качестве темы для общего разговора. Другая подобная тема — кто сколько получает, и что сколько стоит. Ах, это так дорого. Фу, это так дешево. Давайте теперь посчитаем деньги соседа. Ни деньги, ни здоровье дома не обсуждались. И не потому, что мы были сказочно богатыми или здоровыми. Но попусту сотрясать воздух такими беседами считалось нехорошо. Что касается совсем тяжелых ситуаций, в которых я оказывалась — смерть близких, например — то я старалась помнить, что рядом со мной люди. И им тоже больно. Почему они в этот момент должны сдюживать мою истерику? А на работе руководитель просто должен уметь держать лицо. В противном случае команда сдохнет.
— Недавно вы приняли предложение стать креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи. Чего ждать от Третьяковки при вашем участии?
— С Третьяковской галереей я много сотрудничала, когда работала в Британском совете. Мы сделали там четыре масштабных выставки. И сейчас это своеобразное возвращение к истокам. Задачи, которые ставит перед собой Зельфира Трегулова, директор Третьяковки, очень амбициозные, сложные и, с моей точки зрения, правильные. Но Москва не сразу строилась. Дел хватает. До сих пор в новом здании на Крымском нет вайфая, ты в курсе? Крупнейший национальный музей великой страны, 2018-ый год. А вообще мне хотелось бы сделать там столько, что, если начну все перечислять — даже у твоего интернет-издания страницы закончатся.

Свежая программа по уходу La Mer, выписанная Алене на днях, и правительственная телеграмма от зам.министра печати — поздравление ко дню рождения. «Я сходила на процедуру La Mer в ЦУМе недавно. Очень круто!»
— Последний вопрос такой же личный, как первый, про носки. Почему 10 лет назад вы подписали мое заявление об уходе? История была такая. Я писала в Vogue про культуру, и мне было скучно до чертиков. Я хотела заниматься beauty, как и в журнале «Домовой». Но в Vogue отдел красоты был прекрасен и полностью укомплектован. Меня позвали в Harpers Bazaar — на бьюти-позицию, ура. Я собралась уходить. Начались переговоры с руководством Conde Nast, сводящимися к теме — что нужно, чтобы ты, Яна, осталась. Второй темой после beauty, которая меня вдохновляла, была мода. Я готова была остаться на позиции фэшн-райтера. Но один персонаж в фэшн-отделе Vogue заявил: «Либо я, либо Зубцова». Вы, Алена, выбрали его, и дали мне понять, что, если я займусь фэшн-райтерством, ничего хорошего мне ждать не стоит. Разговаривали подчеркнуто холодно. Я вышла из вашего кабинета с легким сердцем: решение было принято, осталось собрать манатки и переехать на Полковую в Harpers Bazaar. Сейчас я вам благодарна: не будь вы так холодны, неизвестно, был бы у меня Beauty Insider. Но — почему?! Я же офигенно писала про моду! И дико вас любила.

Обмен печатной продукцией. Автограф Алены на ее книжке, подаренной мне, звучит так: «Яночке Зубцовой with love in Russian sense of the word»
— Ты хорошо писала про моду, и вообще отлично писала. Но я видела, что вся система Conde Nast тебе не по нутру. И я видела, что ты уже заерзала на попе. А если сотрудник заерзал — его надо отпускать, и, по возможности, делать так, чтобы он ушел с легким сердцем. Beauty я тебе предложить в тот момент не могла, а ты этим горела. Ты, может, сама не понимала: ты вовремя уходишь. И, смотри, что в итоге: ваш авторитетный Beauty Insider. Когда вы его затеяли, мне говорили — Зубцова?! Бьюти-блогер?! А я совершенно не была удивлена. Я знала, что у тебя все получится.

Редкое удовольствие — когда ты можешь сказать своему бывшему начальнику все, что о нем думаешь
PS. Я специально не написала в начале ничего про книгу «Не жизнь, а сказка». Ну, она вышла, и это повод для поговорить, но пока неважно, что я о ней думаю, прочтите интервью. А потом — сейчас — я скажу, что это самая честная из автобиографических проз новейшего глянцевого времени. И она не ранит никого походя — кроме тех, кого, очевидно, автор был не прочь ранить вполне сознательно. Филигранная для автобиографии работа.
Закончив читать (за одну ночь и половину дня), я испытала странное чувство: ты был свидетелем многих описываемых событий и не нашел несоответствия между тем, что видел тогда, и что прочитал сейчас. Ошибки были, обиды были, глупости были, лажи — не было. И в книжке лажи нет.
Алена не написала обо многом из того, что могло бы украсить ее героиню (применимо ли это слово для автобиографий?). Например, ее упрекали в том, что она интересуется людьми только тогда, когда они ей нужны. Если не нужны, — не пытайтесь дозвониться, она способна не поднимать трубку годами. Возможно, это так (я нечасто звонила Алене). Но у нас в Vogue был один парнишка, дизайнер. Он смертельно заболел. Она ездила к нему в больницу каждую неделю. С практической точки зрения этот мальчик уже не мог быть ей полезен. К тому же он вскоре умер. Попробуйте представить, насколько плотно забит график главного редактора на пять лет вперед, но она все-таки к нему ездила. Из этого вполне могла бы выйти жирная глава. Она ее не написала.
Потом, помню, меня доставал один рекламодатель. Он готов был предоставить мне какой-то эксклюзив в обмен на обещание, что я сооружу из этого историю не меньше, чем на 5 полос. (Да, работа пиарщика меряется полосами, часто в ход идет сантиметр.) Раздача эксклюзива предполагалась в Париже. В Париж, в общем, хотелось. Но, не зная, что именно это за эксклюзив, и сколько там будет журналистского мяска, я воздерживалась от письменных подтверждений объема публикации. И вообще, редакторам Vogue не рекомендовалось что-то гарантировать (и правильно). Рекламодатель давил. Я держала оборону. Пинг-понг письмами продолжался месяц, в какой-то момент я поставила в копию Алену. В итоге я отказалась от этой затеи. На мой день рождения Алена подарила мне хитросплетенный букет: тонкие прутики образовывали над кроной цветов прозрачный, но прочный купол. В букет была вставлена записка. За точность цитаты не поручусь, но смысл сводился к тому, что ты, Яночка, под защитой. Тоже была бы неплохая главка, между прочим. Думаю, она этот эпизод и не вспомнила, зато я не забуду.
Потом хрен знает сколько еще всего было. В Алену влюблялись почти все, кто попадал в круг, вне зависимости от гендера, влюблялись с пол-пинка. Я не влюбилась — мне так казалось. По крайней мере, я ее не идеализировала. У нас не было даже идеальных служебных отношений. У меня к ней была масса претензий. Подозреваю, у нее ко мне еще больше. Но, анализируя всех выпавших на мою голову главных редакторов (среди которых были чудесные люди, талантливые люди, порядочные люди и разные люди), могу сказать, что Алена Долецкая была одна такая, Алена Долецкая.
Прочитайте книжку, если еще не.
PSS. Вопросов по теме бьюти, как вы заметили, я решила в интервью не задавать. Но не могла не воспользоваться ситуацией и не зайти втихаря в ванную комнату Алены Долецкой с айфоном. Вы бы мне этого не простили, а она тем более. Сказала бы что-нить вроде «Это, Яночка, для руководителя Beauty Insider — профнепригодность».
Вот, что там на полочках. Кому интересно — разглядывайте.



А ниже — неожиданная находка в холодильнике, куда я полезла за очередным не-ЗОЖ продуктом. Угу, мои любимые патчи для глаз Mosmake.

Но на всякий случай имейте в виду: свечи Алена Долецкая в холодильнике все-таки не хранит. Выгоревшая Diptyque выполняет роль стакана то ли для соды, то ли для чего-то подобного.
И вот еще что.

Алёна Долецкая
Не жизнь, а сказка
© Алёна Долецкая, текст, оформление, 2017
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
* * *«Расскажи, ну расскажи ещё какую-нибудь историю», – бесконечно просил Артём Долецкий, мой племянник.
Ему посвящаю эту книжку.
«Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное».
Далай лама
А. Долецкая, 1973 г.
Объяснительная записка
Никакую книгу я писать не собиралась. Ни художественную, ни мемуарную, ни публицистическую. Кто я такая? Девочка из интеллигентной московской семьи, с классическим университетским образованием и недурным воспитанием. Довольно везучая. Успеха не ждала, просто на него работала. И хотя трудилась всё больше в высших, так сказать, эшелонах культуры и бизнеса, уверяю вас, не все мы, глянцевые девочки, какаем розами.
У меня есть любимое занятие: сидеть на веранде с друзьями и «травить байки». Летом там тенисто и прохладно, падают шишки с сосен, белки хрустят сухарями и семечками, сойки суетятся у кормушек. Мы гоняем чёрные, зелёные и белые чаи с моим клубничным или земляничным вареньем, а иногда и с чем покрепче, вспоминаем истории из жизни. Мои истории все очень любят. Обязательно кто-то говорит: «Алён, ну расскажи ту историю, ну ещё разочек». У друзей и родных есть свои любимые байки. Иногда они перебивают: «Нет-нет-нет, он сначала вошёл, а потом уже…» Они исправляют цвет волос, который был у кого-то из персонажей, год события, название духов, детали нижнего белья. «Слушай, сама расскажи, ты уже лучше эту историю знаешь, чем я», – говорю я в ответ. Не проходит номер.
Эти сказки-байки благодаря моим друзьям обросли первородными запахами и оттенками. Ритуал стал частью дачной магии.
Неожиданно я поняла, что этих историй собралось много, а главное – что у меня появилась возможность не рассказывать в сорок пятый раз одну и ту же сказку-байку. И получше вспомнить полузабытые. Совсем не всегда разухабисто смешные, иногда страшные и грустные, но зато настоящие. Я решила их записать.
Даты – моё слабое место, так что хроники века не ждите.
В народных сказках, которые я читаю до сих пор, помимо разнообразной мудрости, всегда есть превращения и преображения. Сидела лягушкой в углу, ударилась оземь и обернулась Василисой Премудрой. Тыква превращается в карету, чудище – в принца. Вот и я вам расскажу про свои превращения, иногда волшебные, иногда не очень. Но зато никакой лжи, никаких намёков. Всё по правде.
Не бойтесь, не всю правду, конечно. Да и не всё вспомнила. Сказки ведь чем хороши? Превращения бесконечны, и сказка рождает сказку.
Так что, кто знает, может, и будет продолжение. А пока – поехали.
Раз. Два. Три.
Огненный коктейль
Иду я с друзьями на антикварный рынок в Измайлово, одета ничего особенного, в уггах или кроссовках, джинсы, куртка-пальто, в чем на рынок-то ездить? И только вопьюсь глазами в старинные русские рюмочки резного стекла, продавцы мне тут же:
– Please, please, ten dollars, ten dollars only!
– А что это вы по-английски? Я русская, и не парьте мне ten dollars, давайте на рубли и пополам.
– Ой, а я думал иностранка…
С чего бы я иностранка-то? Родилась и выросла в Москве, больше чем на месяц вообще из России не отлучалась. Но ласкаю себя мыслью, а может, тут всё не так просто? Может, там, как у Де Костера, «Пепел Клааса стучит в моем сердце?» Может, моя английская прабабушка Хедвиг Хайтон сказать что хочет?
С Хедвиг какая история была. Живёт она себе поживает в 1900-х годах то ли в Сассексе, то ли в Саффолке со своим мужем, лордом Хайтоном. Рожает леди Хедвиг Хайтон двоих детей, ухаживает за розами, следит за регулярным цветением трёхметровых рододендронов и принимает вечером друзей мужа. Заезжает к ним как-то погостить коллега по бизнесу лорда Хайтона, успешный предприниматель-золотодобытчик, поляк дворянских кровей Станислав Станевич. Как говорит семейное предание, красоты, обаяния, яркости и безбашенности необыкновенной… И – влюбляется в прабабушку, а она, ох, – в него. Он взял и увёз Хедвиг от лорда.
Увёз в Россию, в Санкт-Петербург, потому что в то время добывал золото и серебро на Русском Севере. Прабабушка ходила в англиканскую церковь, но так и не выучила русский язык, и очень любила своего мужа. А потом они уехали в Польшу, где и родилась моя любимая бабушка, Софья Станевич.
Милая история межнациональной любви. Я чту её память, и единственный сохранившийся портрет папы с прабабушкой у меня на стене. Она совсем непохожа на классическую подсохшую английскую леди с поджатыми тонкими губами. Крупный нос, широко открытые глаза. Выдаёт прямая спина и строгий взгляд. А так – вполне бы сошла за дворянку из Саратовской губернии.
Но есть один огорчительный момент. У английской аристократии в то время был закон: если жена развелась с мужем, никакого ей наследства от совместной жизни не достанется, и титулу её тоже – до свидания. Бог с ним, с титулом, а вот родственников и фамильный особняк я бы, конечно, поискала. Да всё как-то не складывается. Вот я и думаю, может, стучится моя прабабушка, напоминает, что надо розысками заняться?
«А почему это дальние родственники меня сами не находят? – думаю. – Что за дела?! Заходите к нам сами, Хайтоны! Я вас обогрею».
«Фу-у, откуда эта самоуверенность?! – снова сама себе».
Хедвиг Хайтон и Станислав Долецкий. 1922 г.
Понятно! Взыграла во мне польская кровь. Папа ведь по паспорту был поляк, и когда родители хотели, чтобы мы с братом не понимали, о чём они между собой говорят, – всегда переходили на польский. К ним по подписке даже приходил юмористический журнал Szpilki, родители его читали и всегда вдвоём хохотали.
Но совсем не всегда моим предкам – гордым полякам – приходилось весело. Мягко выражаясь.
Дедушка, папин папа, Яков Генрихович Долецкий родился в Варшаве, прямо со школьной скамьи, в шестнадцать лет, вступил в Социал-демократическую партию Литвы и Польши. С 1917 года – член ВЦИК и в 1922-м возглавил информагентство РОСТА, которое потом стало называться ТАСС. Пережил до того не один арест и не одну ссылку и в целом всю свою сознательную жизнь посвятил строительству самого счастливого строя на Земле. После звонка своего друга в 1937-м («Яков, арестованы наши друзья. Похоже, ты следующий») он оставил два письма, моему отцу и Сталину, и застрелился. Через сорок минут после того, как дед покончил с собой, пришли энкавэдэшники и забрали все письма.
Бабушка, папина мама, Софья Станиславовна Станевич, дочь того самого безбашенного польского дворянина-разлучника, тоже служила делу революции. В 1918 году вышла замуж за Якова и тоже строила с ним светлое будущее нашей страны. Но когда в середине 30-х годов дед, к тому времени уже руководитель ТАСС, стал ездить на работу в Кремль на роллс-ройсе, она сказала: «Я не хочу больше с тобой жить. Ты на чём домой приехал? Ясно. Ты предал идеи революции».